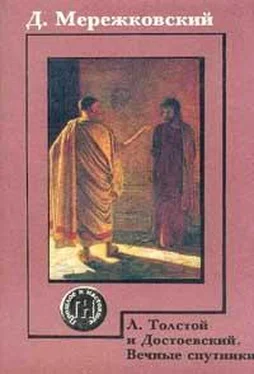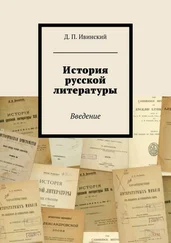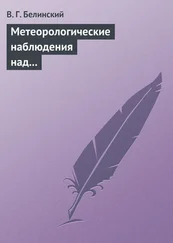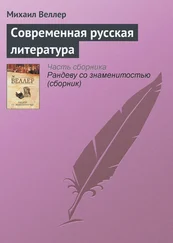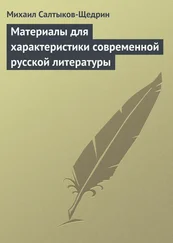Много спорили о так называемом «субъективном методе» Михайловского. Доказывали его полную научную несостоятельность. Но, кроме способности точных знаний, кроме чисто философской абстрактной деятельности разума в человеке есть другая великая сила, создавшая все искусства, все религии, зажигающая искры вдохновения в ученых и философах – сила творческая. Метод субъективный есть метод творческий.
Многие считают Михайловского исключительно позитивистом. Правда, он позитивист, как и большинство русских критиков, в отношении к искусству и красоте. Он не хочет примириться с высшим сознательным и божественным идеализмом, который, как многие люди его поколения, считает реакционным возрождением отжившего и суеверного мистицизма. Но в своих молодых статьях о Дарвине, о Спенсере – он идеалист. Это – все тот же непотухающий огонь любви к народу, который можно проследить и у Гл. Успенского, и у Некрасова, и еще раньше у Белинского, Добролюбова, Писарева. Когда приверженцы эволюционной теории утверждали: человек – «палец от ноги» общественного организма, – когда мнимые дарвинисты проповедовали: поедайте друг друга, способствуйте благодатному закону естественного подбора – тогда и самый невежественный, самый жалкий из людей, носящих образ и подобие Божие, имел бы полное нравственное право восстать на царей разума, на богов точного знания и сказать им в лицо: «Да погибнет вся ваша наука, если она должна привести меня к такому злодейству!» Вот почему дилетант Михайловский говорил смело и гордо, говорил, как власть имеющий, как человеку прилично говорить даже с богами-олимпийцами современной науки! Он не мог и не должен был иначе говорить. Вся оригинальная сила его произведений – в их глубокой и пламенной субъективности.
Но если он не ученый, не поэт, в чем же, наконец, его значение? У Михайловского есть одна превосходная статья о Лермонтове. Критик отмечает в Лермонтове черту необычайной героической воли, несокрушимую гордость и силу, что-то царственное, «признак власти».
Я думаю, что и в безукоризненно-чистой и прекрасной литературной жизни таких людей, как сам Н. К. Михайловский, есть нечто героическое. Вот в чем сила таких людей, вот в чем тайна их обаяния. Это не поэты, не ученые, не философы. Литературой, словом они не могут выразить лучшего, что в них есть. Слово только тогда достигает полноты своего действия, когда оно само для себя награда и цель, для них же слово – только орудие для работы или меч для борьбы, а цель – сама жизнь, т. е. действие воли на волю других людей.
Явление редкое в конце XIX века – человек, абсолютно чуждый сомнений! Чтобы так безупречно верить в какую бы то ни было святыню, надо иметь силу.
Мы живем в странное время, похожее на оттепель. В самом воздухе какое-то нездоровое расслабление и податливость. Все тает… То, что было некогда девственным и белым, как снег, превратилось в грязную и рыхлую массу. На водах – совсем тонкий, изменнический лед, на который ступить страшно. И шумят, и текут мутные вешние ручьи из самых подозрительных источников.
Среди этой мучительной, грязноватой русской оттепели и распутицы отрадно смотреть на спокойную силу, незыблемую твердость и незапятнанную чистоту таких людей, как Михайловский. Вот человек! За 25 лет работы он не изменил себе ни одним движением, ни одним помыслом, ни одним чувством, и не изменит до последнего вздоха.
Он имел одно виденье,
Непостижное уму,
И глубоко впечатленье
В сердце врезалось ему.
И он посвятил этой святыне воистину рыцарское служение без страха и упрека. Слава таким безукоризненным «рыцарям Духа Святого», – по чудному выражению Гейне. Их немного у нас на Руси, их с каждым днем все меньше, и мы не умеем их оценить. Я знаю, наши эстетики проходят мимо таких людей с пренебрежительной улыбкой. Эстетики! Богиня красоты могла бы сказать им, как некогда Учитель сказал фарисеям: «Люди эти чтут меня устами своими, а сердце их далеко отстоит от меня». В рыцарском служении Михайловского так же, как в «бледной, кнутом иссеченной Музе» Некрасова, есть высшая красота любви, и мертво, и холодно сердце у тех, которые не знали ее.
Но вот вопрос: не следует ли лучшим представителям прошлого, например, Н. К. Михайловскому, прислушаться к тому, что говорит современное поколение? Иногда не кажется ли отцам изменой то, что в детях только необходимый следующий момент развития? Кто знает, – может быть, Михайловский нашел бы не одну бездарность и самонадеянность, а что-нибудь искреннее в том, что говорят молодые, идущие за ним. Я знаю, что Михайловский имеет полное право возразить: «Кто же эти молодые? Укажите на них… Что они говорят? Я их не слышу, я их не знаю…»
Читать дальше