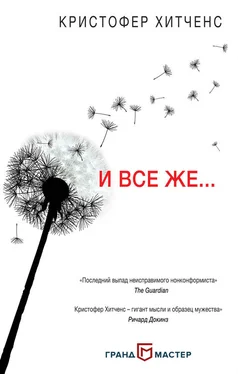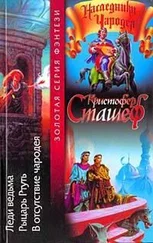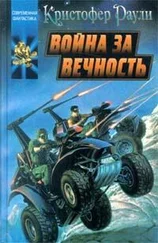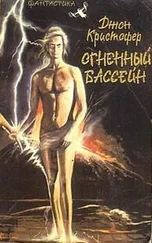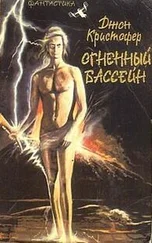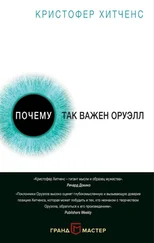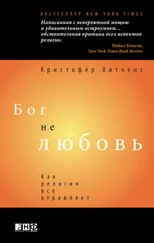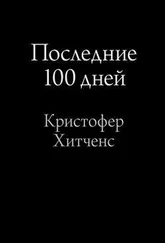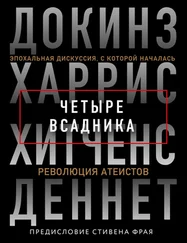Потребность познать на собственном опыте и нежелание довольствоваться официальной версией или народной молвой, были частью «необычайной способности преодолевать трудности», некогда названной Томасом Карлейлем составляющей гениальности. Когда в 1940 году до Оруэлла доходит слух о том, что «подавляющее большинство укрывающихся на станциях лондонского метро составляют евреи», он протоколирует: «Надо спуститься и удостовериться самому». Две недели спустя он сходит в глубины транспортной системы для изучения «толпы, скрывающейся от бомбежек на станциях Чэнсери-лейн, Оксфорд-серкус и Бейкер-стрит. Евреи — не все, но, по-моему, процент евреев в скоплении людей подобного размера выше обычного». Далее с почти отстраненной объективностью он отмечает, что евреям попросту свойственно сильнее бросаться в глаза. И вновь здесь не столько выражение предрассудка, сколько форма его отрицания: этап эволюции Оруэлла. Буквально через пару дней после человеконенавистнической и даже ксенофобской тирады о том, что беженцы из Европы, в том числе евреи, втихомолку презирает Англию и тайно сочувствуют Гитлеру, он обрушивается с суровой критикой на островную предубежденность британских властей, разбрасывающихся талантами эмигранта из Центральной Европы, еврея Артура Кёстлера. Часто противореча сам себе, он изо всех сил старается быть в курсе событий и воспользоваться этим [231] Следует сказать, что Оруэлл пишет несколько аналитических разборов и обличений антисемитизма, а также энергично критикует современных писателей, например Г. К. Честертона, эксплуатировавших его в своих работах. Среди его коллег и друзей в социалистическом еженедельнике «Трибюн» было два еврея, Джон Кимхи и Т. «Тоско» Фивел. Не ради переосмысления всякого банального намека на «некоторых из моих лучших друзей», но Фивел считал Оруэлла свободным от антисемитизма и даже отчасти пророком в недоверии к популярному в то время у левых сионизму. (Оруэлл полагал, что, даже будь тот правым делом, ему потребовалось создать диктаторское государство для самозащиты от поверженного им конкурирующего национализма.)
.
Отличный маленький пример того, как Оруэлл мог разглядеть достойное даже в том, что отвергал, дает наблюдение, сделанное им в тот же период бомбежек при виде разрушений, нанесенных нацистами любимейшему лондонскому собору:
«Сегодня был потрясен полным опустошением вокруг Святого Павла, которое прежде не видел. Святой Павел, едва ли не разрубленный на куски, выдается как скала. И впервые испытал острую жалость от того, что крест на куполе столь декоративен. Это должен быть простой крест, торчащий, как рукоять меча».
Это замечательный пример того, о чем я в другом месте писал как об оруэлловском варианте протестантской этики и пуританской революции. В своих эссе он обычно высмеивал христианство, выказывая особую неприязнь к его римско-католической ветви, однако восхищался красотой англиканской литургии и много знал наизусть из Библии короля Иакова и Книги общих молитв Кранмера. В этом образе возможного облика собора Святого Павла, нарисованном едва ли не в риторике Джона Мильтона и Оливера Кромвеля, он выказал понимание того, как некоторые традиционные ценности могут оказаться полезны для радикальных целей: церемониальный символ приходит на помощь как оружие народной борьбы. (За его честолюбивым замыслом «Отрядов местной обороны» явственно прослеживается восхищение «Армией нового образца» Кромвеля.)
Протестантская революция во многом заключалась в длительной борьбе за доступность Библии на простонародном английском и в выходе из-под лингвистического контроля священства или «внутренней партии». А потому, принимая во внимание пронесенную через всю жизнь почти одержимость предметом, даже удивительно, что здесь Оруэлл не столь энергичен в прославленном коллекционировании пропагандистских мутаций английского. Один яркий пример есть, но он скорее связан с иным элементом «новояза»: необходимостью компрессии для создания журналистского неологизма. В первые дни бомбардировок Лондона Оруэлл пишет о том, что «словом „блиц“ сейчас повсеместно называют любое нападение… [232] Сначала — лишь авианалет. — Прим. перев.
„блиц“ пока еще не глагол, но, ожидаю, скоро будет». Три недели спустя лаконичная запись: «В „Дейли экспресс“ сделали „блиц“ глаголом». Несколько позже, анализируя, почему принялся прочесывать прессу в поисках более широких толкований, он приходит к выводу о том, что «сегодня все сказанное или сделанное мгновенно обретает скрытые мотивы и воспринимается так, будто слово имеет любое значение, за исключением общепринятого». Подобным образом у него в голове постепенно вырисовываются очертания такого дискурса, в котором, скажем, «свобода — это рабство». Иначе говоря, тут не столько сокровищница озарений, сколько медленное и нередко тяжкое складывание пазла.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу