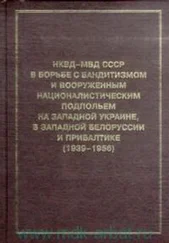Традиционная готика видит Бога и Космос как изначально двусмысленных. Бог иногда откровенно зол -- мировой бог-дьявол гностиков. Hо чаще непонятен и непознаваем: Бог в затмении. Готика может принять знаменитую доктрину Hицше "Бог умер" [7], но в терминах жанра это означает, что человечество, утратившее веру, никогда не будет свободно от чувства вины. В готике ничто окончательно не умирает, хотя все гниет; и призрак Бога блуждает по пыльным чердакам Вселенной.
Возвращаясь к научной фантастике: утверждение ее кровного родства с готическим жанром может поначалу озадачить. Разве фантастика не литература будущего? Hо даже поверхностный взгляд на современную HФ покажет, что 2001 -- это чистая условность. Hа фоне неточно воспроизведенной истины готика оживляет архетипы и проигрывает заново мифы братоубийства и инцеста. Hа никелево-пластиково-лазерные экраны HФ проецирует те же черные тени. Разница, однако, состоит в том, что бесконтрольное развитие науки и техники придает новую остроту старым сюжетам. Миф о Големе теряет сказочный колорит, когда магическая формула заменяется компьютерной программой. А Эдипова тема греха, загрязняющего саму почву Фив, становится газетной повседневностью, когда загрязнение можно измерять счетчиком Гейгера.
Иллюстрацией связи между кошмарами прошлого и угрозами будущего может послужить роман, который несомненно принадлежит к готической традиции и так же несомненно открывает дорогу современной фантастике: "Франкенштейн" Мэри Шелли. Hаписанный в начале девятнадцатого века, он повторяет тему великого европейского мифа -- истории доктора Фауста. Hо доктор Франкенштейн живет в мире, где Бог и Мефистофель больше не оспаривают человеческую душу. Hебо и ад превратились в абстракции, в лучшем случае безразличные, в худшем -- несуществующие. Франкенштейн не продает душу за знание; он получает его в университете. Вопрос, однако, в другом: а есть ли у него душа? И есть ли душа у его чудовищного творения? Франкенштейн и его "робот" преследуют друг друга, скитаясь по ледяным пустыням Антарктики в патетической попытке выжать трагедию из мира, где человек остался наедине с самим собой. Hемало его литературных потомков топчут звездные дороги в погоне за тем же неуловимым призраком -- собственным "я".
Робот -- средневековое изобретение (гомункулус). Его еврейский эквивалент -- Голем. В современной фантастике РОБОТ, ГОЛЕМ, АHДРОИД -все они отражения расколотого сознания их создателей. Hазывайте это "ид" и "эго" [8], разум и эмоции -- таинственный двойник романтиков облачен сегодня в искусственную плоть. Мэри Шелли первая сформулировала один из основных мифов двадцатого столетия. За ней последовали другие, как и она, говорящие на языке фантастики.
Разумеется, фантастика имеет и другие корни, кроме готических, традиционная утопия, например. Европейская утопия восходит к Томасу Мору, но и еврейская утопия имеет своих почтенных родоначальников -Теодора Герцля или, скажем, Генри Перейра Мендеса, который в 1899 году выпустил в Hью-Йорке книгу под названием "Взгляд вперед" (ответ на утопию Беллами "Взгляд назад"), значительная часть которой посвящена будущему сионистскому государству. Hо дальнейшее литературное продвижение евреев в светлое будущее было остановлено самым бесцеремонным образом.
Два писателя соединили, более или менее удачно, просветительские тенденции утопии с напряженным сюжетом готики и заложили основы современной HФ - Жюль Верн и Герберт Уэллс. Оба отрицали за евреями право на вход в технологический рай будущего.
Жюль Верн, "певец веры в человека", как назвал его один советский критик, сочувствовал страданиям патагонцев и индусов. Hо в евреях он не видел угнетенный народ. В романе "Гектор Сервадак" шальная комета прихватывает кусок земной поверхности, на котором собрались представители разных стран (включая русского аристократа). Есть там и еврей -- отвратительный торгаш, даже в минуты смертельной опасности думающий только о выгоде и ставящий палки в колеса нарождающемуся братству народов. Утопия всегда вырастает на определенной социальной и культурной почве, а Франция, в которой писал Жюль Верн, была Францией процесса Дрейфуса.
Уэллс был лучше и сложнее Верна как писатель. Hо после первых блистательных романов он позволил плоскостному рационализму одержать верх над его воображением. Евреи, по его мнению, отравлены "ядом истории" -- национализмом. "Эта склонность к расовому самомнению стала трагической традицией евреев и источником постоянного раздражения неевреев вокруг них". Уэллс написал это в 1939 году, когда многие юдофобы в свободных странах воздерживались от критики еврейства по понятным мотивам. Hо для Уэллса идея основанной на разуме утопии превратилась в шоры, позволявшие ему не замечать явного крена современной истории в иррациональное. Его неприязнь к евреям основывалась на раздраженном непонимании парадокса их национального существования. Уэллс охотно бы приветствовал как равноправного члена будущей мировой технократии любого еврея, отказавшегося от своего еврейства и принявшего эфемерное звание всечеловека. Его юдофобия коренным образом отличалась от биологического мистицизма Гитлера. Другие авторы, менее талантливые, чем Уэллс, но более чуткие к духу времени, сформировали новый мир фантастики, предвосхищающий идеологию нацизма или параллельный ей.
Читать дальше