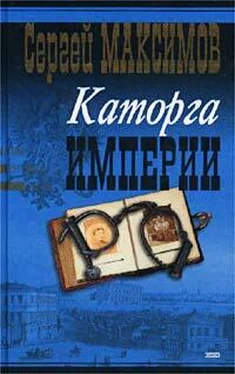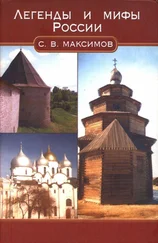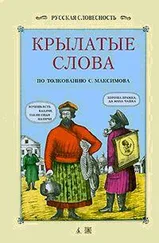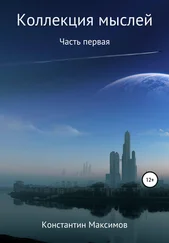Так было со мною и на этот раз в одной из самых дальних деревень Забайкальского края, у окна одного из ее утлых и старых домов, одного, в котором засадила меня весенняя распутица и бездорожица.
Я сидел и слушал; и слышал на тот раз отдаленные звуки, какого-то неопределенно-тоскливого напева и строя. Звуки эти унесли воображение мое на Волгу, где, ломая путину и разламывая натруженную и наболевшую грудь жестокою лямкою, бурлак тянет свою унылую песню, подлаживая к ней свой шаг, приурочивая свои разбитые ноги. Сходство напева сибирской песни с волжскою бурлацкою на первых порах казалось мне поразительным. Но песенные звуки становятся яснее и определеннее и досужее воображение мое спешит рисовать уже иные картины. Вот, думалось мне, безжалостные подруги расплели у невесты девичью косу, чтобы накрыть ее голову повоем: и вот она, невеста эта, вспомнив скорую утрату всей своей девичьей воли,
Что во неге у матушки,
В прохладе у братьецов, —
выливает все свое горе в песенный плач, у которого готова только внешняя форма, но наружное проявление в напеве всегда такое самобытное и сильное. Невеста как будто собрала в груди все накипевшее горе и все слезы и как будто в последний раз в жизни решилась вылить их все вдруг и вслух всем. Напев в нашей песне в таких случаях обыкновенно бывает не менее тоскливый и не менее щемит он сердце. На этот раз он показался мне схожим с тем, который доносился до моего слуха с улицы сибирской деревни. Но вот песня послышалась еще ближе. Воображение поспешило подладить к ее напеву другие, новые, но знакомые и похожие картины, — и в воспоминаниях встал, как живой, сельский погост: бедные и покривившиеся кресты, погнившая и обвалившаяся ограда, много могил на погосте. На одной могиле распластался, упавши на грудь, живой человек. Из груди его несется стон, слышатся те тоскливые тоны, какими богаты все могильные плачи. Однообразны плачи эти в содержании, одинаковы и в напеве. Тоскливее напева этих плачей я не знал прежде и не чаял встретить потом других, которые были бы равномерно закончены, одинаково верны своей цели и своему смыслу. Но когда из-за угла сибирской деревни показалась толпа арестантов с верховыми казаками впереди, с солдатами по бокам, и когда послышалась и песня, вся целиком, я забыл о всяческих сравнениях. Я бросил их как неверные, далекие от образов, навеянных настоящею песнею. Тоны арестантской песни сливались в один; переливы так были мелки, что их почти нельзя было отличать и выделить из целого. А в этом целом слышался один стон, и самая песня эта показалась тогда сплошным стоном; но стонал на этот раз не один человек — стонала целая толпа. Слов не было слышно (при всех моих напряженных усилиях я не мог поймать ни одного), слова и тоны слились в один гул; и гул этот и стон этот щемили сердце до того, что становилось положительно жутко и неловко. Так и веяло от песни сыростью рудниковых подземелий, мраком тюремных стен, свинцового тяжестью всяческой каторги, где человеку хуже и безвозвратнее, чем в других каких-либо отчужденных местах на всем белом свете, на всем земном шаре.
Целые дни потом преследовали меня мучительные звуки арестантской песни, и, возвратившись теперь к ней воспоминаниями, я не могу указать иной, которая отличалась бы более тоскливым напевом. Смею уверить, что ни одна русская песня не приурочена так к выражению внутреннего смысла в напеве, ни одна из них не бьет прямо в цель и в самое сердце, как эта песня, выстраданная арестантами в тюрьмах и на этапах. На этот раз кандальная партия осиливала последнюю сотню верст из долгого и тяжелого, семитысячного и годового пути своего. Ей оставалось идти уже немного верст, чтобы попасть домой, т. е. прямо на каторгу.
Пока колодники у нас перед глазами, мы от них не отстанем. Не отстанем мы от толпы этой, хотя она и движется вдоль улицы мучительно-медленным шагом, едва волочит ноги. Самый звук кандалов стал какой-то тупой и слышный и громкий потому только, что идущая партия ссыльнокаторжная, в которой — как давно и всякому известно — на каждые ноги надеваются тяжелые пятифунтовые цепи. На этот раз медленная поступь — преднамеренная, ради сбора подаяний, и вышла она торжественною потому, что всякий арестант увлечен пением и вводит в артельную песню свой разбитый голос, чтобы, таким образом, мольба была общею и конечнее била в сердобольные сердца слушателей.
Стоит на улице сплошной стон от песни, и бережно несет свою песенную мольбу эта густая арестантская толпа, точно боится выронить из нее слово, сфальшивить тоном, и поет усиленно громко, словно обрадовалась случаю торжественно и окончательно высказать вслух всем свое неключимое горе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу