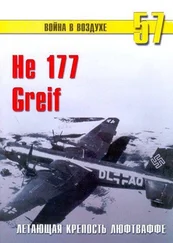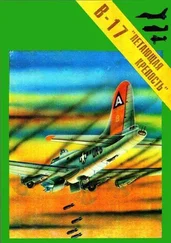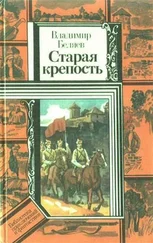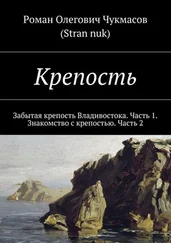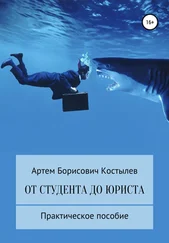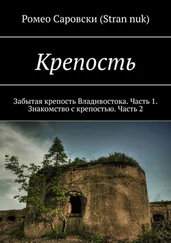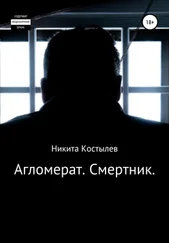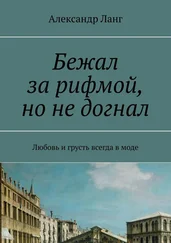И в начале 1940 г. выпуск ТБ-7 был остановлен.
Почему?! В чем дело?! Да неужто в НКВД костоломы перевелись, чтобы плетьми и сапогами напомнить работникам НКАП о производственной дисциплине? Или все-таки прав «Суворов», утверждающий, что шибко агрессивные советские военные убедили «самого главного агрессора» Сталина бросить все силы на выпуск 100 000 «крылатых шакалов» типа Су-2 — и тем самым поставили крест на программе ТБ-7? Тогда — да, все становится понятно. Раз не нужен самолет, нет смысла и налаживать для него выпуск специальных агрегатов. Но дело в том, что как раз военные-то и продолжали — то есть вопреки решению товарища Сталина?! — требовать выпуска ТБ-7.
Темна вода во облацех.
Но она моментально становится прозрачной, как слеза раскаявшегося троцкиста, если, наконец, набраться мужества и произнести вслух, хотя бы и сквозь зубы: АЦН, по-видимому, довести до работоспособного состояния не удалось. Вот не сумели. Бывает, в конце концов.
Непонятно, что мешало сделать это историкам за 50 лет, прошедших с начала войны. Что здесь такого зазорного? Где, в каком государстве, в какие времена конструктор был застрахован от неудач? Это что, такое редкое явление, что накладывает несмываемое пятно на репутацию советских конструкторов? Любой мало-мальски интересующийся техникой человек знает, что на каждый доведенный до серии проект приходится с десяток других, загнувшихся еще на стадии опытного образца, и еще больше тех, что были перечеркнуты еще на кульмане. И примеров тому несть числа в практике советских, немецких, британских, американских инженеров, представляющих все области технического проектирования.
А за подтверждением того, что АЦН, мягко говоря, барахлил, далеко ходить не надо. Неприятности с ним начались уже на первом этапе государственных испытаний, проходившем в августе-сентябре 1938 г: М-100 отказывался развивать полные обороты (2120 вместо заявленных 2400 об/мин). Это довольно странно, учитывая, что собственно М-100 был освоен-переосвоен в серии и активно эксплуатировался на сотнях бомбардировщиков СБ. Причем опасения, вызванные неполадками у военных испытателей, были, по-видимому, настолько серьезны, что в «Заключении по испытаниям» ВВС потребовали от авиапрома (тогда — 1-е ГУ НКОП) «…разработать мероприятия по обеспечению замены АЦН-2 установкой на мотор АМ- 34ФРН двухскоростного нагнетателя или турбокомпрессора…»
ГУ ВВС (Алкснис) вторил НИИ ВВС (Филин):
«…4. Обязать Главное моторное управление НКОП построить и установить на данный испытываемый самолет ТБ-7 комплект турбокомпрессоров к 1 июля 1938 года и предъявить их на государственные испытания».
В предложениях ВВС по бомбардировочной авиации есть такие пункты:
«…2. Предъявить на государственные испытания к 15 июля 1939 года ТБ-7 4АМ-34ФРН с ТК-1. 3. Предъявить на государственные испытания к 15 сентября 1939 года ТБ-7 4АМ-35 с ТК-1. 4. С января 1940 года самолеты ТБ-7 ДОЛЖНЫ ВЫПУСКАТЬСЯ С ТК БЕЗ АЦН со следующими данными: максимальная скорость на высоте 8600 м — 450 км/ч; дальность с 2000 кг бомб внутри бомбоотсека — 4000 км, дальность с 3000 кг бомб — 3000 км».
Обратим внимание: в каждом из приведенных отрывков рефреном повторяется одно и то же требование: турбокомпрессоры, турбокомпрессоры, турбокомпрессоры. То есть военным товарищам нравится ТБ-7, вернее, нравятся его летные характеристики, особенно — способность сохранять их на больших высотах. Но им непременно хочется избавиться от АЦН. Почему-то. Им желательно, чтобы на смену центральному наддуву пришли индивидуальные турбокомпрессоры. Что ж, в целом, как уже говорилось, товарищи идут правильной дорогой.
Короче говоря, ситуация, по-видимому, сложилась следующая: пока АЦН работает штатно — ТБ-7 демонстрирует все те чудеса, которые так любят смаковать историки ура-патриотического толка. Как только отказывает — превращается в балласт. Проблема же заключается в том, что добиться стабильной работы агрегата не удается. В 1939 г. место М-100 в агрегате занял боле современный мотор М-103. Лучше не стало: НИИ ВВС в отчете по испытаниям отмечал, что агрегат недоведен, и после четырех(!) часов в воздухе испытания пришлось прекратить из-за нарушений в работе фрикциона АЦН-2. И если бы только это! Бывало и так: при запуске АЦН (производился обычно на высоте 4000–4200 м) происходил… срыв карбюраторов на АМ-34.
Срыв карбюратора — это в лучшем случае выход двигателя из строя. А в худшем — возгорание в полете, поскольку парообразная топливовоздушная смесь распыляется в непосредственной близости от горячих деталей вроде выхлопных патрубков двигателя. Двигатели АМ-34ФРН в зависимости от модификаци могли иметь 4 либо 6 карбюраторов; повреждение хотя бы 1 ставило машину в аварийную ситуацию. Понятно, что заказчика такое положение с силовой установкой машины, по определению предназначенной для полетов в глубокий тыл врага, скажем так, не вполне устраивало.
Читать дальше