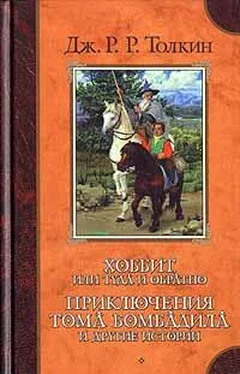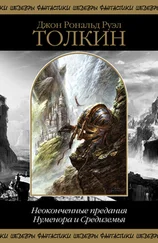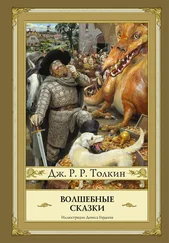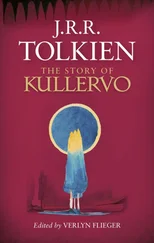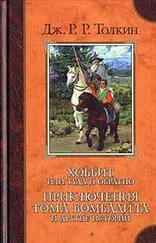Но воображаемое удовлетворение древних желаний человечества — не единственный аспект восстановления душевного равновесия, которое дают волшебные сказки. Гораздо важнее — счастливая концовка. Я даже рискнул бы утверждать, что в настоящей волшебной сказке счастливая концовка обязательна. Во всяком случае, если трагедия — истинная форма драмы, наивысшая реализация ее возможностей, то для сказки справедлива обратная посылка. Поскольку соответствующего термина у нас, кажется, нет, я обозначу эту посылку словом «эвкатастрофа» (от древне–греч. ей — хорошо и katastrophe — переворот, развязка). Эвкатастрофическое повествование — это и есть подлинная форма волшебной сказки, наиглавнейшая ее функция.
Радость от счастливой концовки волшебной сказки — или, точнее, счастливой ее развязки, нежданного радостного поворота ее сюжета, ибо сказки никогда по–настоящему не кончаются {8} — вот одно из благ, которыми волшебная сказка особенно щедро оделяет людей. По сути своей это не радость «эскейписта» или «чудом спасшегося». В сказочном оформлении, то есть как бы пришедшая из Волшебной Страны, эта радость — неожиданно и чудесно снизошедшая благодать, которая, может быть, больше никогда не возвратится. Она не противоречит существованию «диската–строф» (печальных концовок), скорби и несбывшихся надежд: ведь без этого невозможна и радость избавления от несчастий. Но она отрицает (если хотите, вопреки множеству фактов) полное и окончательное поражение человека и в этом смысле является евангелической благой вестью, дающей мимолетное ощущение радости, радости, выходящей за пределы этого мира, мучительной, словно горе.
Хорошая волшебная сказка тем и отличается, что, о каких бы невероятных и ужасных событиях и приключениях они ни рассказывала, когда наступает «кульминация», и у детей, и у взрослых одинаково перехватывает дыхание, сильнее бьется сердце, а на глаза наворачиваются слезы. Силой эмоционального воздействия она не уступает другим видам повествовательного искусства, причем воздействие это особенное, характерное только для волшебной сказки.
Даже современные волшебные сказки достигают иногда этого эффекта, а это нелегко: все зависит от сказки целиком, а не только от кульминации сюжета, зато, при блестяще достигнутой кульминации, и сюжет начинает восприниматься в ином свете. Такое эмоциональное воздействие в любом случае свидетельствует о победе автора и его произведения, пусть даже там полно недостатков и путаницы. Вот, к примеру, отнюдь не выдающаяся во многих отношениях сказка Эндрью Лэнга «Принц Зазнайо». Когда мы читаем «…Все рыцари по очереди оживали и кричали, потрясая мечами: „Да здравствует принц Зазнайо!“» — к нашей радости примешивается особый привкус, роднящий сказку с мифом, потому что описанное событие в сказочно–фантастическом плане воспринимается как бы более серьезно, чем все остальные повороты сюжета. В целом эта сказка скорее легкомысленна, у нее на губах играет насмешливая улыбка галантной, изысканной Conte (французской сказки). Если бы в «Принце Зазнайо» не было контраста между легкостью или даже легкомысленностью сюжета и серьезностью концовки, не было бы и «привкуса мифа» [17]. Куда более впечатляющего сказочного эффекта достигает серьезный рассказ о Волшебной Стране [18]. В таких сказках, когда наступает неожиданный поворот событий, ткань повествования словно взрывается, наружу устремляется сияние — и нас пронзает такая радость, будто исполнились самые заветные желания.
«Семь долгих лет жила я для тебя,
Я ноги белые сбивала для тебя,
Кровь из рубашки отжимала для тебя.
Теперь очнись! Взгляни же на меня!»
Он услышал — и взглянул на нее. («Норвежский черный бык».)
Эпилог
Счастливая развязка, которую я считают основной характерной чертой настоящей волшебной сказки (и рыцарского романа), заслуживает более подробного рассмотрения.
Вероятно, каждый писатель, создающий вымышленный мир, желает в какой–то мере быть творцом реальности или хотя бы использовать ее элементы. Он надеется, что характерные особенности выдуманного им мира (если не все его составляющие [19]) выведены из реальности или вливаются в нее. Если писатель действительно достигает того уровня, который хорошо определяется понятием «внутренняя логичность реального», трудно представить себе, чтобы его произведение тем или иным способом не соприкасалось с реальностью. Соответственно, счастливую развязку любой удавшейся автору сказки можно объяснить как неожиданное и мимолетное проявление реальности или «правды», лежащих в ее основе. В счастливой концовке заключено не только утешение человека, окруженного реальными мирскими горестями, но и удовлетворенная справедливость, и ответ на вопрос: «Это правда?» Мой первый (и достаточно верный) ответ на этот вопрос был таков: «Да, если ты выстроил свой маленький мир хорошо, значит, для твоего мира все это правда». Этого достаточно для художника (или, по крайней мере, для художественной части его натуры). Но «эвкатастрофа» в один миг разворачивает перед нами более возвышенный ответ — далекое евангелическое сияние, эхо благой вести в реальном мире. Понятие «евангелический» намекает, что именно я скажу в своем эпилоге. Это тема серьезная и опасная. С моей стороны, весьма самонадеянно ее касаться; но если то, что я с Божьей помощью выскажу, в каком–то отношении правильно, — это, несомненно, лишь одна грань баснословно многогранной истины, конечной в нашем, человеческом, восприятии лишь потому, что наши способности восприятия конечны.
Читать дальше