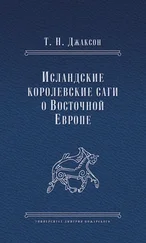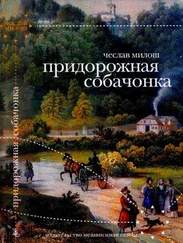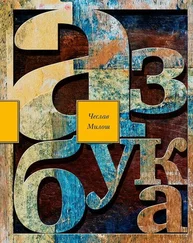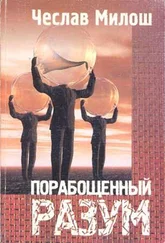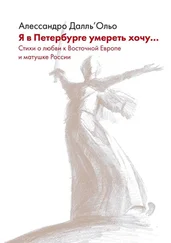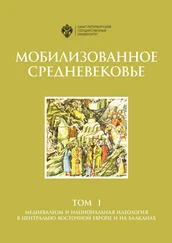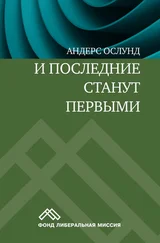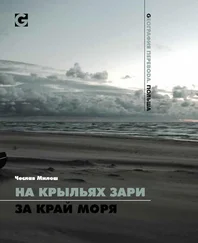Надежда Мандельштам любит игру, которую выдумала сама: предлагает каждому назвать десять по-настоящему образованных (и нестарых) людей в Советском Союзе. Выясняется, что таких только двое: один — лингвист, а другой — специалист по византийской культуре. Тогда Надежда Яковлевна открывает их секрет: оба много болели в детстве и не ходили в советскую школу. Мне такое счастье не выпало. Но если я получил какое-то образование, то получил в тот год. Университет мне дал только элементарные знания в области литуанистики (притом, многие ее сферы остались для меня недоступны); кроме того, я там познакомился с Марксом, о чем, впрочем, не жалею, и немного занимался классической филологией. Мы с приятелем даже разыскивали какого-либо раввина, чтобы нас обучил древнееврейскому языку, но разве найдешь раввина в послевоенном Вильнюсе? Во всяком случае оказалось, что можно чему-то научиться. Можно плыть против Ниагары лжи и ненужной информации и даже выплыть, только никого нельзя тащить за собой: каждый должен проделать это сам. Здесь я признаюсь, что кроме Вильнюса меня формировала Москва, очень интересный город, ибо, как говорит Зиновьев, там найдется все, что угодно для души: католики и буддисты, авангардисты и диссиденты, математики и девушки получше парижских. Правда, большинство этих девушек теперь уже именно в Париже. Или в Лондоне. Но шутки в сторону, Москва — это серьезный опыт.
У меня есть один типичный советский изъян: я не говорю ни на одном иностранном языке (кроме русского и польского), даже теперь, в Америке, английский мне дается с трудом. Читаю, правда, на нескольких, но, кажется, в этом кругу пассивного владения языками и останусь, а это меня сильно раздражает. Но на что, собственно, языки советскому человеку? Иностранные книги ему доступны в смехотворно малых количествах, периодика вообще недоступна, о путешествиях лучше умолчим. Тем важнее для меня оказался польский язык; и не для меня одного. Я знал с десяток людей, для которых он тоже был окном в мир. Многие годы мы собирались в польском книжном магазине на «Гедиминке»; в наши руки попадали и такие книги, которых в том магазине не было, например, Твои. Мы спорили и шутили по-польски, отчасти чтобы избежать нежелательных слушателей, отчасти из снобизма, отчасти из любви к польскому языку, ибо ему были многим обязаны.
Здесь я подхожу к проблеме литовско-польских отношений. Вражда между нашими народами мне кажется чудовищной глупостью, и я хотел бы думать, что мы ее преодолели. Полагаю, что значительная, вероятно, б ольшая часть молодого поколения литовцев не испытывает к полякам никакой неприязни. Скорее всего это взаимно. Может, где-то и сохранилось чувство польского превосходства, аристократизма, а может и нет. Над нами прокатилась такая эпоха, что старые споры кажутся несущественными. Но все же вопрос, пожалуй, немного сложнее.
Национальное самосознание в Литве развилось достаточно поздно, с большим трудом и именно в оппозиции к Польше. Влияние польской культуры, особенно после Люблинской унии (1569), было огромным и, по-моему, в общем положительным, хотя здесь практически ни один литовец со мной не согласится. Без Польши мы бы многого не знали, в том числе, вероятно, и понятия политических прав. Да и в нашем национальном возрождении слышались типичные польские обертоны, то сарматские, то мессианские, только эти модели парадоксальным образом оборачивались против польского культурного влияния. Все было наоборот: король Ягелло 24 24 [24] Ягелло (Йогайла) — внук Гедимина, объединивший Литву с Польшей в конце XIV века.
— предатель, Януш Радзивилл 25 25 [25] Януш Радзивилл — магнат XVII века, пытавшийся отделить Литву от Польши; в польской традиции считается классическим типом предателя.
— герой и так далее. Нация должна была стать на собственные ноги. А делала она это иногда неуклюже, впадая в детские комплексы, что нетрудно простить, ибо оно поначалу случается с каждым. Комплексы, однако, держатся невероятно долго и становятся балластом. Ты говоришь о злопамятности поляков. Злопамятность литовцев, по-моему, еще сильнее, ее хватает на несколько сотен лет. Мы даже этим гордимся, хотя стоит ли? Помним, что польское культурное (и социальное) господство в Литве в восемнадцатом веке стало угрожать нам утратой языка и собственного исторического пути. Добавь к этому болезненное чувство национальной второсортности, которое накапливалось столетиями; из этого непременно рождается мания величия в сочетании с манией преследования. Легко над этим смеяться, хотя у народа в таком положении являются и здоровые амбиции. Сам я ни в малейшей степени не испытываю чувства национальной второсортности; молодое поколение литовцев от него освобождается, так как Литва теперь, пожалуй, ни в чем не отстает от других стран Восточной Европы; но некоторые стереотипы сохраняются и могут возродиться, тем более, что опыт тоталитаризма отнюдь не способствует мудрым и терпимым отношениям. Существует какая-то привычка демонизировать поляков. По этому мнению (все еще влиятельному, хотя и менее, чем бывало), поляки целые века думают исключительно об одном: как бы Литву присоединить к Польше, ополячить и вообще загубить. Они опаснее русских (ведь католики и к тому же европейцы). Сохранился стереотип поляка-Маккиавелли не то из Ошмяны, не то из Альпухары 26 26 [26] «Альпухара» — баллада Мицкевича, описывающая коварные методы в борьбе за национальное выживание.
, который всегда своего добьется, если не силой, то коварством. Здесь, в эмиграции, я часто встречаю подобные взгляды, и всегда при этом испытываю ужасный стыд, потому что ведь это какая-то незрелость, прямо из романов Гомбровича. Зрелую нацию, какой Литва безусловно сейчас уже стала, попросту невозможно денационализировать, даже если кто-нибудь этого очень хочет. Весь этот стереотип — инерция и тяга вспять. Он может быть выгоден только режиму. Именно поэтому нельзя о нем забывать, и следует (полякам тоже) избегать всего, что могло бы поддержать или возродить эти чувства.
Читать дальше