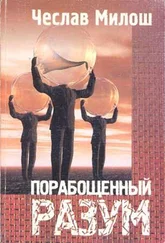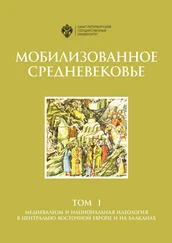Моя школа, бывшая иезуитская гимназия, стояла в конце этой улицы — как бы островов среди руин. Была она большая, очень мрачная, и я вынес из нее далеко не лучшие воспоминания. Разные кризисы, свойственные отроческим годам, совпали с тем, о чем я уже говорил — с ощущением ненормальности, какой-то вывихнутости мира. В самый первый день после школы я заблудился в руинах; это мучительное беспомощное блуждание в поисках дома, которое продолжалось добрых четыре часа (некого было спросить, потому что людей я встречал немного, к тому же никто не говорил по-литовски), стало для меня чем-то вроде личного символа. Население Вильнюса в эту раннюю пору было очень невелико; вдобавок это была непостижимая магма. Евреи почти все погибли; поляки постепенно уезжали в Польшу (или в Сибирь), оставался, пожалуй, пролетариат да люмпены; литовцы либо принадлежали к новой советской элите, либо к недобитой интеллигенции, обычно сломленной или запуганной; появилось много русских и других иммигрантов — чиновников, оккупационных офицеров с красивыми дочками, но и простых людей, живущих нищенски или хуже того. Из «тутошнего» наречия, русского и осколков литовского, на глазах творился новый странный жаргон. Город был бандитским и опасным. Часто вспыхивали дикие драки, главным образом при сведении национальных счетов. А прежде всего каждый чувствовал тяжкую руку власти.
Я ощущал ее иначе, нежели большинство, — мои родители были частью советской элиты; но все же ощущал. Пользуясь достаточно богатой библиотекой отца, я интересовался множеством предметов. Но вскоре мне пришлось понять, что бывают несуществующие — то есть запрещенные — имена и несуществующие — то есть запрещенные — вопросы. Меня это страшно раздражало и унижало. В нескольких книгах — при этом в переводах греческих классиков — оказалась вырезанной фамилия переводчика. Я спросил отца, что это значит; он ответил, что в таком виде купил книги у московского букиниста, а кто был переводчиком, понятия не имеет. Куда позже я узнал, что речь шла об Адриане Пиотровском (сыне Тадеуша Зелинского 17 17 [17] Фаддей (Тадеуш) Зелинский — русско-польский ученый начала ХХ века, один из крупнейших авторитетов в области античности.
), погибшем во время сталинских чисток. Другого переводчика классической греческой литературы, на сей раз на литовский язык, тоже не полагалось называть по фамилии, потому что это был президент независимой Литвы Сметона. Но что ж говорить о Сметоне; ведь официально не существовала (потому что была враждебной и плохой) большая половина литовской литературы; позднее я понял, что русской тоже. Не существовала национальная и религиозная проблематика — со временем, естественно, это вызвало у меня весьма живой интерес к обеим. Не существовало также большинства стран мира. Франция или Англия были для меня чисто литературными понятиями, вроде островов Жюля Верна; Польша, впрочем, тоже. Они были попросту выдуманы или в лучшем случае принадлежали к прошлому; в настоящем осталось какое-то однородное и абсолютно недоступное (потому что вражеское) пространство. Уже после университета мне в руки попала книга «Все Вильно в 1913 году». На одной из первых ее страниц был длинный список заграничных городов, в которые можно купить прямой железнодорожный билет из Вильнюса. Я полюбопытствовал: сколько же этих городов осталось? Обнаружил два: Кенигсберг (Калининград) и Львов.
Делалось решительно все, чтобы выкорчевать прошлое и привить новый образ мышления. Конечно, это не ограничивалось снятием крестов и неожиданным переименованием кинотеатров «Казино» и «Адрия» в «Москву» и «Октябрь» (эти названия они носят по сей день). Новую идеологию насаждали всевозможными способами, при этом так, чтобы унизить побольнее, показать человеку, что он ничего не стоит. Старые учителя в школе и профессора в университете, задыхаясь от бессильной ярости, повторяли фразы, в которые не верили и которые человеку, наверно, вовсе не пристало говорить. Поэт Путинас, уже немолодой и почтенный, некоторое время молчал, но вскоре начал публиковать, что положено. В повести о 1863 годе он протащил фразу, которая произвела впечатление на многих: дескать, нация должна созреть не только для свободы, но и для неволи. По-моему, это фраза капитулянтская. Не д олжно приучаться к роли раба. Впрочем, Путинас писал в стол стихи, которые сейчас всплывают в эмигрантских журналах. Переводил Мицкевича, заседал в Академии наук и был отчаянно несчастен; умер после многих лет такой жизни. Ему устроили официальные похороны.
Читать дальше