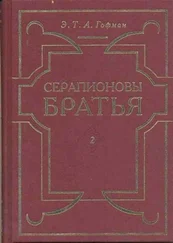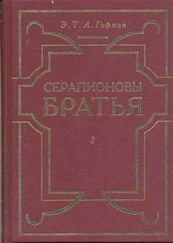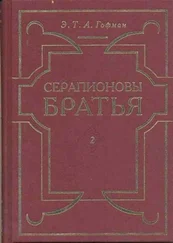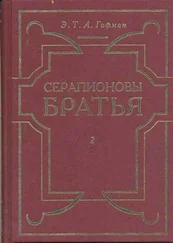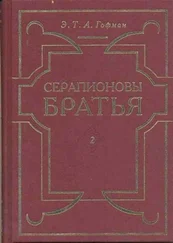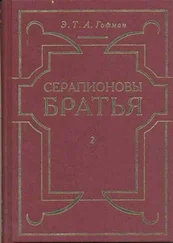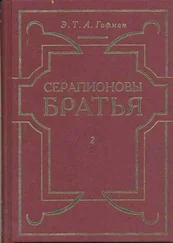Но Креспель - и тут он вновь возвращается в романтический избранный круг - свято хранит "божественную искру". А возможно - причем сплошь и рядом - еще и такое, когда ни нравственность, ни сознание не оказываются в силах побороть "все вздымающееся в нас из земли". Гофман бесстрашно вступает и в эту сферу. Его роман "Эликсиры дьявола" на поверхностный взгляд может представиться сейчас всего лишь забористой смесью романа ужасов и детектива; на самом деле история безудержно нагнетаемых нравственных святотатств и уголовных преступлений монаха Медардуса - притча и предупреждение. То, что, применительно к Креспелю, смягченно и философически-отвлеченно обозначено как "все вздымающееся в нас из земли", здесь именуется гораздо резче и жестче - речь идет о "беснующемся в человеке слепом звере". И тут не только буйствует бесконтрольная власть подсознательного, "вытесняемого" - тут еще и напирает темная сила крови, дурной наследственности.
Человек у Гофмана, таким образом, тесним не только извне, но и изнутри. Его "сумасбродные кривлянья и ужимки", оказывается, не только знак непохожести, индивидуальности; они еще и каинова печать рода. "Очищение" души от "земного", выплеск его наружу может породить невинные чудачества Креспеля и Крейслера, а может - и преступную разнузданность Медардуса. Давимый с двух сторон, двумя побуждениями раздираемый, человек балансирует на грани разрыва, раздвоения - и тогда уже подлинного безумия. Карнавал над бездной...
* * *
Но это означает, что романтик Гофман совершает в стане романтических воинов духа сокрушительную диверсию: он разрушает самую сердцевину, ядро их системы - их безоглядную веру во всемогущество гения.
Другие романтики очень многое из того, что ощутил Гофман, тоже ощущали, а нередко и выражали (особенно Гёльдерлин и Клейст). Романтизм полон пророческих предвосхищений, для нашего времени подчас ошеломительных, неспроста оно вглядывается в эпоху романтизма с таким вниманием. Но все-таки большинство романтических собратьев Гофмана, "пренебрегая свидетельствами чувств", пытались "снять" открывшиеся им противоречия человеческого бытия чисто философски, преодолеть их в сферах духа, с помощью идеальных умозрительных конструкций. Гофман отринул все эти теоретические обольщения либо отвел им тот статус, который им единственно и пристал: статус сказки, иллюзии, утешительной мечты. Опьяненный фантазиями Гофман - на поверку почти обескураживающе трезв.
Новалис истово и неустанно доказывал, что частица гения заключена в каждом из нас, она как бы дремлет до поры до времени в нашей душе, лишь погребенная под наслоениями эпох "цивилизации". Гофман истово и неустанно зондировал эту душу, пристально всматривался в нее - и обнаружил там вместо изначальной гармонии роковую раздвоенность, вместо прочного стержня зыбкий, переменчивый контур; если в этих глубинах и сокрыты тайны универсума, то не только благие - там перемешаны зоны света и тьмы, добро и зло.
У Новалиса герой его романа "Генрих фон Офтердинген", юноша, готовящийся к призванию поэта, встречается в своих странствиях с неким отшельником (оба, конечно, предшественники гофмановских героев - и его юных энтузиастов, и его пустынника Серапиона); листая одну из древних исторических книг в пещере отшельника, Генрих с изумлением обнаруживает на ее картинках свое собственное изображение. Это, конечно, символ, аллегория: образное выражение "поэт живет в веках" Новалис материализует, предлагает воспринимать буквально; он не только выражает тут популярную у романтиков общую идею "предсуществования" личности, но и применяет ее к личности прежде всего поэта. "Я вездесущ, я бессмертен, я лишь меняю ипостаси" - вот новалисовский смысл идеи предсуществования и превращения.
У Гофмана мы с превращениями сталкиваемся на каждом шагу; в собственно сказках это может выглядеть и вполне безобидно, таков тут закон жанра, но когда хоровод двойников и оборотней завихряется все неуемней, захватывая повесть за повестью и подчас становясь поистине страшным, как в "Эликсирах дьявола" или в "Песочном человеке", картина решительным образом меняется, бесповоротно омрачается. "Я распадаюсь, я теряю ощущение своей цельности, я не знаю, кто я и что я - божественная искра или беснующийся зверь" - вот гофмановский поворот темы.
И это, напомним, касается не только душ "остальных смертных" - души Медардуса или владельца майората, Кардильяка или игрока, - это касается, увы, "энтузиастов" и гениев тоже! Вместе с другими романтиками отвергая просветительский образ человека "разумного", рационального и расчисленного как уже несостоятельный и себя не оправдавший, Гофман в то же время сильно сомневается и в романтической ставке на раскованное чувство, на произвол поэтической фантазии; по вердикту Гофмана, прочной опоры они тоже не дают.
Читать дальше