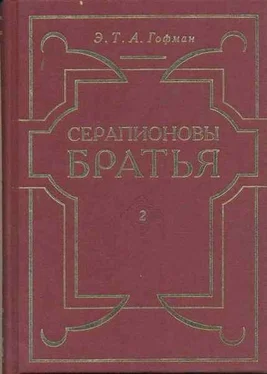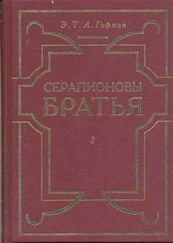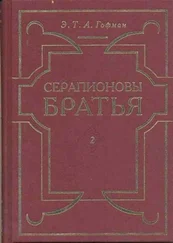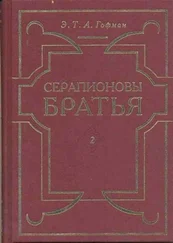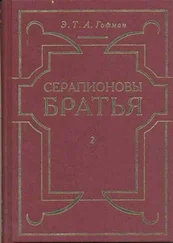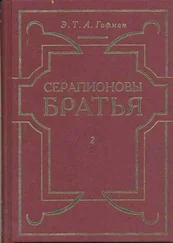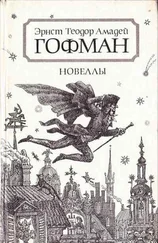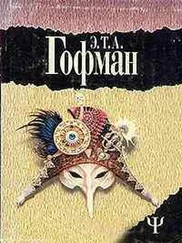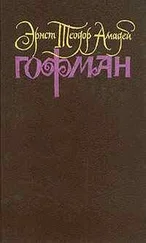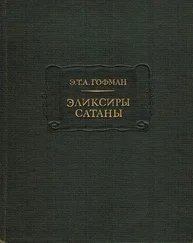Эрнст Теодор Амадей Гофман
Чайное общество
— Случай или, вернее сказать, излишняя любезность, — так начал Оттмар, — сделали меня посетителем одного эстетического чайного общества, а так как время проходило там довольно скучно, то я старался всеми способами не оставаться на его собраниях долго. Меня бесило то, что истинно талантливые произведения, прочитываемые там иногда, обыкновенно возбуждали в обществе одну зевоту, тогда как невыносимые стихи какого-то юного, много возмечтавшего о себе поэта, общего любимца гостей, вызывали всеобщий восторг. Поэт этот пробовал свои силы и в чувствительном, и в серьезном, но преимущественно много воображал о своей способности писать эпиграммы. В них, впрочем, всегда оказывался недочет в остроте, и потому он обыкновенно подавал собственным примером знак, когда следовало смеяться, причем ему немедленно начинало вторить все общество. Раз, на одном из таких собраний, я скромно попросил позволения прочесть небольшие стихи, сочиненные мной в счастливый момент вдохновения. Все общество необыкновенно обрадовалось и с охотой согласилось на мою просьбу. Я вынул из кармана листок и прочел:
Чудеса Италии
Гляжу ли я к востоку,
Лучи зари вечерней
Сияют назади!
Взгляну ли я на запад,
Пленительное солнце
Заглянет мне в лицо!
О чудный край, где могут
Свершаться перед нами
Такие чудеса!
«Прелестно! Божественно! Милейший господин Оттмар! Как это глубоко прочувствовано! Как хорошо!» — так воскликнула хозяйка дома, а вслед за ней и толпа одетых в черные фраки юношей, с великолепными жабо. Одна молодая барышня даже отерла выступившую у нее на глазах слезу умиления. По общему требованию, я стал продолжать, придав своему голосу самое трогательное выражение и на этот раз прочел следующее:
Малютка юнкер Мас
Скворца себе припас,
За ним не доглядел,
Скворец и улетел!
И юнкер Мас опять
Один стал поживать!
Новый восторг и новые похвалы! Вся публика громко требовала продолжения. Я скромно ответил, что подобные, глубоко обдуманные вещи, обнимающие жизненные вопросы со столь разнообразных сторон, будучи прочитаны в неумеренном количестве, могут подействовать слишком сильно на нервы дам, а потому я и предпочитаю лучше сообщить несколько эпиграмм, в которых слушатели, конечно, не откажутся признать присутствие главного качества эпиграммы, а именно — соли. Я прочел:
Толстяк хозяин Шрейн
Любил один рейнвейн,
И раз хватил так много,
Что отдал душу Богу.
Сосед же Грау сидит
Да со смехом говорит:
«Хозяин Шрейн толстяк!
Когда бы не пил так
Зараз ты очень много
Не отдал душу б Богу».
Когда общество достойно выразило свое изумление по поводу блестящего остроумия этой эпиграммы, я выступил с другой:
Раз Гамму Гумм сказал:
«Ты что-нибудь слыхал
о книге Ганзена?» —
«А ты ее читал?» —
Спросил так Гамм.
А Гумм-хитрец на это
ему с улыбкою лукаво молвил: «Нету!»
Все громко рассмеялись, а хозяйка дома даже сказала, погрозив мне пальцем: «О злой! Можно ли быть колким до такой степени!» Один из гостей, слывший в обществе за непогрешимого судью и критика, горячо пожал мне руку со словами: «Отлично! Благодарю!» Только юный поэт обернулся ко мне спиной, а молодая барышня, пролившая слезы над «Чудесами Италии», подойдя ко мне со скромно опущенным взором, сказала, что сердце женщин способно более помнить чувство, чем остроумие, и потому она убедительно просит меня дать ей списать первое стихотворение. Я обещал, поцеловав, как следует восторженному поэту, ручку прекрасной просительницы, что, впрочем, сделал больше для того, чтобы еще более взбесить юного стихотворца, бросившего на меня взгляд василиска.