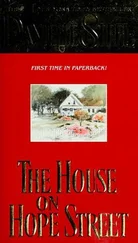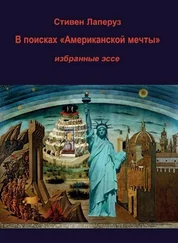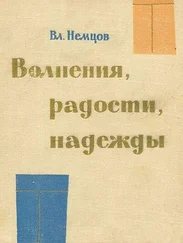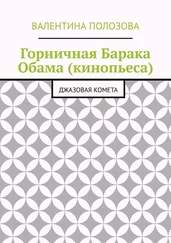Но обрушившаяся после речи публичность укрепляет мое ощущение того, насколько мимолетна слава, насколько она зависима от тысячи разных случайностей, от того, что что-то происходит так, а не иначе. Я понимаю, что не стал умнее, чем был шесть лет назад, когда временно застрял в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Мои взгляды на здравоохранение, образование или внешнюю политику не стали сложнее, чем были тогда, когда я в безвестности трудился социальным работником. Если я и сделался умнее, то это в основном благодаря тому, что прошел немного дальше по избранному для себя пути, по пути политики, и увидел, что он может вести и к добру, и к злу.
Я помню разговор почти двадцатилетней давности с одним другом, человеком старше меня, который занимался гражданскими правами в Чикаго в шестидесятые и преподавал исследование городских проблем в Северо-Западном университете. Я только что решил, проработав три года, поступить на юридический факультет; поскольку этот человек был одним из немногих знакомых мне преподавателей, я спросил у него, не даст ли он мне рекомендацию.
Он сказал, что будет рад написать мне рекомендацию, но вначале хотел узнать, зачем мне диплом юриста. Я упомянул, что меня интересует занятие гражданскими правами и что мне хочется однажды попытаться выставить свою кандидатуру на государственную должность. Он кивнул и поинтересовался, подумал ли я о том, что может означать выбор такого пути, на что я готов пойти, чтобы делать правовое обозрение, или стать партнером, или быть избранным на ту первую должность и затем продвигаться наверх. Как правило, и юриспруденция, и политика требуют компромисса, сказал он, не только по отдельным вопросам, но и в фундаментальных вещах — твоих ценностях и идеалах. Объяснял он это не затем, чтобы отговорить меня, как он сказал. Просто это факт. Как раз из-за его нежелания идти на компромисс он, хотя в молодости ему много раз это предлагали, всегда отказывался идти в политику.
— Это не значит, что компромисс сам по себе плох, — сказал он мне. — Просто мне он не приносил удовлетворения. А с годами я обнаружил, что делать надо то, что приносит удовлетворение. Вообще-то, полагаю, одно из преимуществ преклонного возраста — это то, что начинаешь понимать наконец, что для тебя важно. В двадцать шесть понять это трудно. И проблема в том, что на этот вопрос за тебя никто не ответит. Только сам можешь узнать.
Двадцать лет спустя я вспоминаю тот разговор и могу лучше оценить слова своего друга, чем мог тогда. Ведь я приближаюсь к возрасту, когда начинаешь чувствовать, что тебе приносит удовлетворение, и хотя я, вероятно, более терпим к компромиссу в частных вопросах, чем мой друг, я убежден, что удовлетворение найду не в свете телевизионных юпитеров и не в овациях толпы. Удовлетворение, похоже, чаще приходит от сознания, что я конкретным образом способен помочь людям жить достойно. Я думаю о том, что Бенджамин Франклин писал своей матери, объясняя, почему он столько своего времени посвятил государственной службе: «Я бы предпочел, чтобы обо мне сказали: „Он прожил с пользой", чем „Он умер богатым"».
Вот это сейчас, думаю, приносит мне удовлетворение — быть полезным своей семье и избравшим меня людям, оставить после себя наследство, которое сделает жизнь наших детей более полной надежд, чем наша. Иногда, работая в Вашингтоне, я чувствую, что приближаюсь к этой цели. В другое время мне кажется, что цель от меня отдаляется и все мои занятия — слушания, речи, пресс-конференции и меморандумы — это одно самолюбование, бесполезное для всех.
Когда я оказываюсь в таком настроении, то люблю пробежаться по Эспланаде. Обычно я бегаю ранним вечером, особенно летом и осенью, когда воздух в Вашингтоне теплый и спокойный и листва едва колышется. С наступлением темноты там не много людей — несколько прогуливающихся пар, бездомные на скамейках, разбирающие свои пожитки. Почти всегда я останавливаюсь перед Мемориалом Вашингтона, но иногда пробегаю дальше через улицу к Национальному мемориалу Второй мировой войны, затем вдоль Зеркального пруда к Мемориалу ветеранов Вьетнама и вверх по ступеням Мемориала Линкольна.
Ночью огромный храм освещен, но часто пуст. Стоя среди мраморных колонн, я читаю Геттисбергское послание и Вторую инаугурационную речь. Я смотрю на Зеркальный пруд, представляю, как толпа затихла от мощного голоса доктора Кинга, затем перевожу взгляд на освещенный прожекторами обелиск и сверкающий купол Капитолия.
Читать дальше
![Барак Обама Дерзость надежды. Мысли об возрождении американской мечты [The Audacity of Hope] обложка книги](/books/26630/barak-obama-derzost-nadezhdy-mysli-ob-vozrozhdenii-cover.webp)