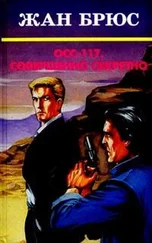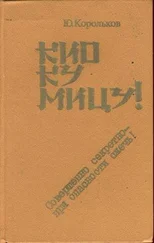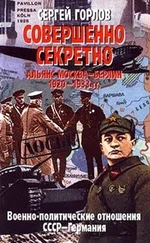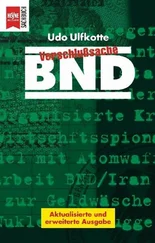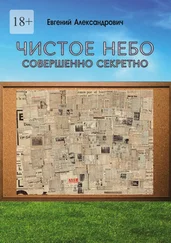Вся “шпионская наука” основывается исключительно на мемуарах лиц, некогда причастных к разведке и контрразведке, к которым можно также отнести и всяких составителей разнообразных справочников, выходящих под многозначительными названиями типа “Искусство разведки” или “Методы контрразведывательной работы”. Но по большей части все эти “труды” не несут в себе практической ценности, так как тезис “ для того, чтобы быть успешной, разведка ни в коем случае не должна раскрывать свои тайны ” никогда не оспаривался даже самыми безответственными болтунами.
Уникум— в данном случае это почтовая марка (или ее разновидность), существующая в единственном экземпляре.
Практика тотальных вербовок информаторов во всех слоях французского общества была начата знаменитым “королем ищеек” Вильгельмом Штибером (1818–1892 гг) еще до франко-прусской войны 1971 года. Являясь “глазами” Бисмарка и его правой рукой, этот “знаменитый прусский мастер тотального шпионажа” сумел использовать предоставленные ему средства на создание целой армии (40 тысяч, цифра, правда, некоторыми историками подвергающаяся сомнению, но в свете других данных вполне вероятная) шпионов, действовавших во Франции настолько успешно, что впоследствии дало Бисмарку повод заявить, что “армия Штибера” “наполовину выиграла войну”. Информаторами Штибера были не только лица, приближенные к крупным французским чиновникам и военачальникам, но и многие работники французской разведки. Это положение существовало вплоть до самой смерти Штибера, но его преемники не сумели должным образом воспользоваться столь богатым наследием, и в течение последующих 20 лет германская разведка постепенно приходила в упадок.
Феррари, Филипп(1848–1917) — самый известный из всех известных коллекционеров почтовых марок. Обладая гигантским состоянием, полученным от родителей, богатых австрийских аристократов, более чем за полвека собрал коллекцию почтовых марок и редких конвертов, которой нет равных в мире ни у кого до сих пор. Судьба коллекции Феррари плачевна: после начала первой мировой войны основная часть ее попала в руки французов и была конфискована, так как Феррари был австрийским подданным. Коллекция была распродана на четырнадцати аукционах (1921-25 гг) и треть вырученной суммы (26 миллионов франков) была засчитана в счет денег, которые Германия должна была выплатить Франции в возмещение убытков, нанесенных войной. Вторая часть коллекции, оказавшаяся в Швейцарии, была обложена швейцарскими властями налогом в три миллиона франков, но в конце концов наследники Феррари вступили в свои права, и продали затем эту часть коллекции одной английской марочной фирме за 5 миллионов фунтов стерлингов.
Раритет— в данном случае это весьма редкая почтовая марка (или ее разновидность), имеющаяся в небольшом количестве экземпляров.
Когда в самый разгар нашумевшего “дела Дрейфуса” в защиту обвиняемого выступил Эмиль Золя, опубликовав свой памфлет под названием “Я обвиняю!”, военные сфабриковали дело и против него, потребовали привлечения знаменитого французского писателя к суду и добились своего. Золя был приговорен к годичному тюремному заключению и уплате значительного денежного штрафа. Золя подал апелляцию в Верховый суд и там, несмотря на давление властей, приговор был отменен. Однако правительство по требованию армии отдало распоряжение о новом пересмотре дела, и тогда Золя, понимая, что на свободе во Франции надолго не останется, спешно выехал в Англию. Таким образом приговор нового суда был вынесен заочно. Однако дело спас счастливый случай, подтолкнувший главу французской разведки Жака Анри к совершению роковой ошибки — это был довольно грубо сфабрикованный подложный документ, призванный покончить с неутихающим “делом Дрейфуса” раз и навсегда. На суде подделка была разоблачена, и вскоре, как известно, рухнуло и все “дело Дрейфуса”. Каждый участник этой драмы получил по заслугам: невиновные реабилитированы, виновные посажены в тюрьму. Однако интересна сама закономерность: если бы не оплошность не слишком опытного и чересчур самоуверенного Анри, знаменитый Золя так и умер бы на чужбине в изгнании, а патриот Дрейфус — в тюрьме своей родной страны, и вряд ли невиновность этих лиц была бы доказана по нынешние времена.
Читать дальше