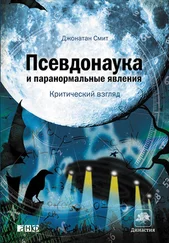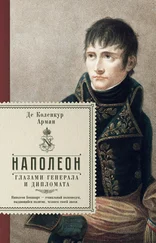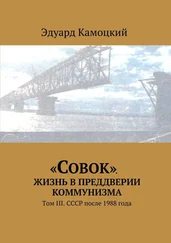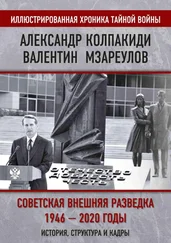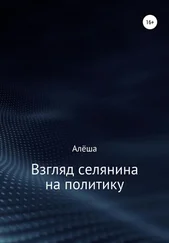То, что в результате в основном неучета английских и французских ядерных средств число подлежавших уничтожению ракет у Советского Союза оказалось заметно большим, чем у Соединенных Штатов, конечно, имеет немалое значение с военной точки зрения. Однако следует учитывать то, что арифметическая разница между количествами уничтоженных СССР и США ракет средней и меньшей дальности далеко не полностью отражает реальное положение вещей. Если с учетом неодинаковой стратегической ценности разных ракет (наши ракеты СС–20, размещенные в Европе, не достигали США, а их «Першинги–2» были размещены в Европе как раз для создания угрозы территории СССР) привести количества уничтожаемых той и другой сторонами ракет к общему знаменателю, то разница будет не столь велика, как кажется на первый взгляд.
Кроме того, — и это было очень важно — на такой шаг можно и нужно было пойти ради того, чтобы положить начало движению к безъядерному миру. Именно этим, главным образом, определяется наше в целом положительное отношение к Договору между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанному 7 декабря 1987 г. в Вашингтоне. Такое мнение полностью разделяло и военное руководство.
Но прежде чем этот договор был подписан в таком виде, немало копий было сломано не только на переговорах в Женеве, но и в «домашних спорах» в Москве. И тем не менее некоторых промахов советской стороне избежать не удалось.
Наиболее серьезный из них, который еще может обернуться неприятностями для СССР, касается советских ракет «Ока» (по западной терминологии СС–23). В чем суть этого вопроса?
Согласно Договору по РСМД, ликвидации подлежали, наряду с ракетами средней дальности (от 1000 до 5500 км), ракеты дальностью от 500 до 1000 км. При этом, как и в других аналогичных случаях, установленной дальностью ракеты считается максимальная дальность, на которую испытывался данный тип ракеты. Это общепризнанный способ определения дальности ракеты, ибо понятно, что ни один военачальник не решится запустить ракету на большую дальность, чем она испытана, — в этом случае не только нельзя обеспечить необходимую точность попадания, но вообще неизвестно как поведет себя ракета в полете.
Между тем максимальная дальность, на которую испытывалась советская ракета «Ока», не превышала — и это было известно американской стороне — 400 км. Поэтому она вообще не должна была подпадать под действие Договора по РСМД, как об этом резонно напомнил М. С. Горбачев государственному секретарю США Дж. Бейкеру в беседе с ним 11 мая 1989 г. [16] См. Правда. — 1990. — 12 мая.
И тем не менее «Ока» попала под уничтожение.
Почему же так получилось? Когда такой вопрос был задан 15 октября 1990 г. министру иностранных дел Э. А. Шеварднадзе одним из депутатов Верховного Совета СССР, министр, к сожалению, не пожелал дать прямого ответа на него, сославшись на то, что этот вопрос, по его мнению, «сложный и деликатный».
Поэтому авторы сочли необходимым внести наконец ясность в этот вопрос, который, являясь действительно деликатным, в то же время вовсе не сложен. История его такова.
Американцы, зная, что ракета СС–23 испытана на дальность значительно меньшую, чем 500 км, тем не менее настойчиво добивались, чтобы она попала под ликвидацию в соответствии с Договором по РСМД. Они попытались было мотивировать это тем, что если бы такая же по габаритам ракета была изготовлена по американской технологии, то она могла бы иметь дальность 500 км. Но это была попытка с негодными средствами — с таким же успехом можно было поставить вопрос о любой советской ракете.
Министерство обороны после длительного давления на него согласилось в конечном счете пойти на включение ракеты СС–23 в договор, сделав это вполне честно и справедливо: предложить американцам запретить все ракеты в диапазоне не с 500, а с 400 до 1000 км. Тем самым, наряду с ликвидацией нашей ракеты СС–23, была бы поставлена преграда для создания (а такой проект уже был известен) модернизированной американской ракеты «Лэнс–2» с дальностью 450–470 км.
Однако в ходе пребывания в апреле 1987 года в Москве государственного секретаря Дж. Шульца, как только он спросил Э. А. Шеварднадзе, согласны ли мы подвести ракеты СС–23 под понятие «ракеты меньшей дальности» (500–1000 км), последовал ответ: для нас это не будет проблемой. Давайте попросим экспертов заняться этим вопросом. Повторяю, за нами дело здесь не станет.
Не надо быть особенно искушенным в дипломатии, чтобы понять, что тем самым Шульцу был дан, по существу, положительный ответ. На встречу экспертов, состоявшуюся в МИДе в тот же вечер, представители Генштаба, вопреки сложившейся за многие годы практике, приглашены не были. С протоколом встречи их также знакомить не стали, поскольку, как потом объясняли работники МИДа, протокол, мол, не велся, что опять–таки противоречило многолетней практике.
Читать дальше