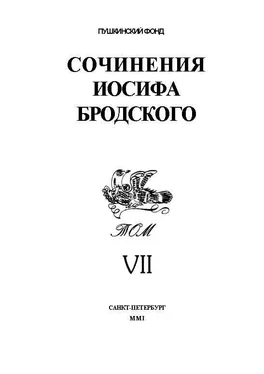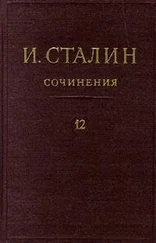Рядом со мной картина в нутрии объясняла почти шепотом, что везет меня в отель, где сняла мне номер, что, скорее всего, мы увидимся завтра или послезавтра, что она хотела бы познакомить меня с мужем и сестрой. Мне нравился ее шепот, хотя он гармонировал скорее с темнотой, чем с самим сообщением, и я ответил таким же заговорщическим голосом, что всегда приятно повидать вероятных родственников. Тут я несколько пережал, но она засмеялась, так же вполголоса, приложив к губам руку в перчатке коричневой кожи. Пассажиры вокруг, брюнеты по преимуществу, обусловив своим количеством нашу близость, не шевелились и если переговаривались, то на тех же пониженных тонах, словно тоже о предметах интимного свойства. Затем небо на мгновение затмила гигантская мраморная скобка моста, и вдруг все залил свет. «Риальто»,— сказала она нормальным голосом.
В путешествии по воде, даже на короткие расстояния, есть что-то первобытное. Что ты там, где тебе быть не положено, тебе сообщают не столько твои глаза, уши, нос, нёбо, пальцы, сколько ноги, которым не по себе в роли органа чувств. Вода ставит под сомнение принцип горизонтальности, особенно ночью, когда ее поверхность похожа на мостовую. Сколь бы Прочна ни была замена последней — палуба — у тебя под ногами, на воде ты бдительней, чем на берегу, чувства в большей готовности. На воде, скажем, нельзя забыться, как бывает на улице: ноги все время держат тебя и твой рассудок начеку, в равновесии, точно ты род компаса. Возможно, та чуткость, которую приобретает твой ум на воде,— это на самом деле дальнее, окольное эхо почтенных хордовых. Во всяком случае, на воде твое восприятие другого человека обостряется, словно усиленное общей — и взаимной — опасностью. Потеря курса есть категория психологии не меньше, чем навигации. Как бы то ни было, в следующие десять минут, хоть мы и двигались в одном направлении, я увидел, что стрелка единственного человеческого существа, которое я знал в этом городе, и моя разошлись самое меньшее на сорок пять градусов. Вероятнее всего, потому, что эта часть Canal Grande лучше освещена.
Мы высадились на пристани Accademia, попав в плен твердой топографии и соответствующего морального кодекса. После недолгих блужданий по узким переулкам меня доставили в вестибюль отдававшего монастырем пансиона, поцеловали в щеку — скорее как Минотавра, мне показалось, чем как доблестного героя,— и пожелали спокойной ночи. Затем моя Ариадна удалилась, оставив за собой благовонную нить дорогих (не «Шалимар» ли?) духов, быстро растаявшую в затхлой атмосфере пансиона, пропитанной слабым, но вездесущим запахом мочи. Пару минут я разглядывал мебель. Потом завалился спать.
Таким был мой первый приезд сюда. Ни дурным, ни благим предзнаменованием он не оказался. Если та ночь что и напророчила, то лишь то, что обладателем этого города мне не стать; но таких надежд я и не питал. В качестве начала, я думаю, этот эпизод сойдет, правда, в моем знакомстве с единственным человеческим существом, которое я знал в этом городе, он скорее означал конец. В тот раз я видел ее еще дважды или трижды; и действительно был представлен сестре и мужу. Первая оказалась очаровательной женщиной: высокая и стройная, как моя Ариадна, и, может быть, даже ярче, но меланхоличнее и, насколько могу судить, еще замужнее. Второй, чья внешность совершенно выпала у меня из памяти по причине избыточности, был архитектурной сволочью из той жуткой послевоенной секты, которая испортила облик Европы сильнее любого Люфтваффе. В Венеции он осквернил пару чудесных campi [6] небольшая площадь, сквер (итал.).
своими сооружениями, одним из которых был, естественно, банк, ибо этот разряд животных любит банки с абсолютно нарциссистским пылом, со всей тягой следствия к причине. За одну эту «структуру» (как в те дни выражались) он, по-моему, заслужил рога. Но поскольку, как и его жена, он вроде бы состоял в компартии, то задачу, решил я, лучше всего возложить на какого-нибудь их одно-партийца.
Разборчивость, с одной стороны; а с другой, когда в какой-то мрачный вечер несколько времени спустя я позвонил из глубин моего лабиринта единственному человеческому существу, которое знал в этом городе, архитектор, почуяв, видимо, что-то не то в моем ломаном итальянском, оборвал нить связи. Так что теперь дело и вправду было за нашими красноармянскими братьями.
Мне говорили, что потом она развелась с архитектором и вышла за пилота американских ВВС, который оказался племянником мэра городка в великом штате Мичиган, где я когда-то жил. Мир мал, и сколько ни живи, не найдется ни мужчины, ни женщины, от которых он стал бы шире. Так что ищи я утешенья, я мог бы извлечь его из мысли, что теперь мы топчем одну землю — уже другого материка. Похоже, конечно, на обращение Стация к Вергилию, но это как раз укладывается в привычку таких, как я, видеть в Америке род Чистилища, на что, впрочем, намекает и сам Данте. Единственная с ней разница, что ее небеса обжиты намного лучше моих. Отсюда мои налеты в мой вариант рая, куда она так любезно меня ввела. Во всяком случае, за последние семнадцать лет я возвращался в этот город, или повторялся в нем, с частотой дурного сна.
Читать дальше