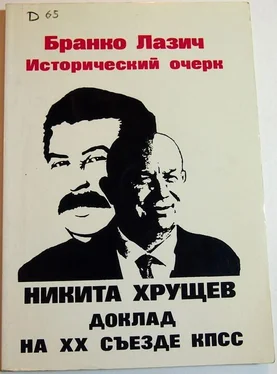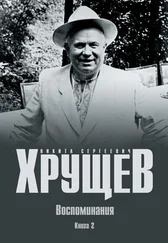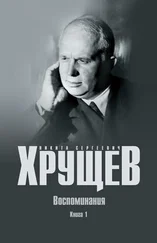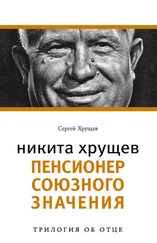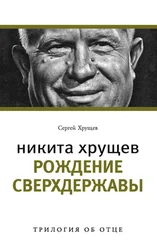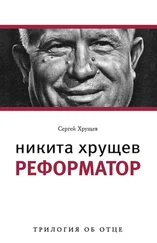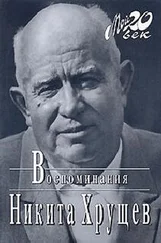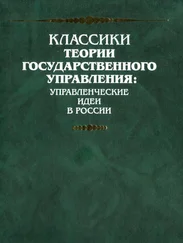Второй этап: работа созданной комиссии. Хрущев пишет в Воспоминаниях: «Различные доказательства, представленные этой комиссией, были полной неожиданностью для многих из нас. Я говорю о самом себе, Булганине, Первухине и Сабурове и некоторых других. Я думаю, что Молотов и Ворошилов были лучше информированы о подлинных размерах и причинах сталинских репрессий…» {2} 2 Op. cit. р. 345.
. Снова некоторое указание на разногласия внутри политбюро, с той лишь разницей, что Хрущев присваивает себе довольно голубую роль, включая самого себя в ряды недавно избранных членов политбюро, тогда как на самом деле он стал членом этого высшего партийного органа задолго до войны: первый секретарь столичного райкома партии и столичной области с 1935 года, кандидат в члены политбюро с 1938 года, член политбюро в 1939 году, Хрущев занимал высшие государственные и партийные посты как раз в период великих сталинских чисток и находился в самом геополитическом центре этих чисток.
И лишь на третьем этапе деятельности комиссии на самом съезде появляются первые серьезные последствия того решения, которое станет событием мирового и исторического значения.
Клемансо говорил, что в условиях парламентской демократии создание комиссии служит лишь для погребения обсуждаемого вопроса. Мы видим, что в коммунистической партии СССР происходит скорее обратное. Такая комиссия занимается эксгумацией какого-либо вопроса, но обычно лишь для замкнутого круга партийной элиты. Почти для всех членов политбюро «дело Сталина», на первоначальном этапе, сводится к обмену мнений, при закрытых дверях, между ними самим, с одной стороны, и этой комиссии, включавшей четыре или пять человек. Эксгумация же трупа Сталина, отнюдь, не обязывала их к публичному обсуждению всех этих вопросов, и уж менее всего перед 1 436 делегатами двадцатого съезда партии.
Благодаря Хрущеву, события приняли иной ход. Он рассказывает: «Хотя съезд проходил безо всяких потрясений и мое выступление было принято с воодушевлением, я не был удовлетворен. Я без конца думал о различных фактах, представленных комиссией Поспелова. В конце концов, я решился и во время перерыва одного заседания, очутившись в одной комнате вместе с членами политбюро, я задал им вопрос: „Товарищи, что мы будем делать с отчетными данными товарища Поспелова?“» {3} 3 Op. cit. р. 347.
.
Сразу же разгорелся яростный спор, и его бурный характер в точности соответствовал той опасности, которой Хрущев подвергал своих коллег, стремясь сделать расследование о деятельности Сталина публичным достоянием. В этом яростном споре политические аргументы, выставляемые группой «стариков», были более логичны, чем аргументы первого секретаря, оказавшегося, однако, более ловким в политическом шантаже. Ворошилов, Каганович и Молотов выставляют три основных возражения. С их точки зрения, эти возражения исходили из здравого смысла и нисколько не рядились в идеологические одеяния:
1. «Что придется нам говорить о нашей собственной роли во время Сталина?» (Иначе говоря, они опасались, что возникнет вопрос о их личном участии в сталинском терроре.)
2. «Представляете ли, что за этим последует?» (По их мнению, политические последствия трудно было предвидеть, и уж во всяком случае, эти последствия были бы отрицательными.)
3. «Что вас заставляет действовать таким образом?» (В самом деле, советскому руководству не было никакой нужды направляться по этому пути.)
Чтобы заставить уступить тех, кого впоследствии будут называть «антипартийной группой», Хрущев напоминает им о принципах демократического централизма: он настаивает, что на съезде партии нужно обсудить дело Сталина. Он говорил также о моральном значении первых, недавно освободившихся зэков, вернувшихся из сталинских лагерей. Но, вне всякого сомнения, наиболее убедительным аргументом было следующее предупреждение, обращенное к противникам: «Я напоминаю вам, что каждый член политбюро имеет право обратиться к съезду и выразить свою собственную точку зрения, даже если она не соответствует генеральной линии, намеченной в основном докладе, представленном на съезде» {4} 4 Op. cit. р. 349. В своем выступлении 27 октября 1961 года на двадцать втором съезде Хрущев заявил, что на двадцатом съезде он сказал своим собеседникам буквально следующее: «Если вы будете против того, чтобы этот вопрос дебатировался, тогда мы обратимся к делегатам съезда и спросим их мнение».
.
Читать дальше