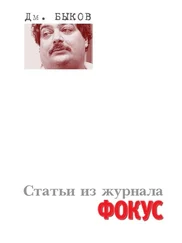Казанова и есть обыватель par excellence, а никакой не романтик и уж тем более не борец; он любит сладко попить (предпочитает мёд вину) и поесть (не забывает подробно описать, чем кормили, зная, что это нравится читателю); женское тело и доставляемые им радости он тоже любит, но, кажется, из двух главных, по Толстому, человеческих страстей — похоти и тщеславия — второе в нём решительно сильнее.
Он и львиную долю своих эротических подвигов совершает потому, что это повышает его самооценку, когда она, простите за невольный каламбур, падает. Для него главный результат новой влюблённости — не только очередная павшая крепость, но и дорогой подарок или своевременная протекция, и возлюбленных он выстраивает именно по этому ранжиру.
Влюбиться в такого человека, к несчастью, очень легко, потому что женщина охотнее всего влюбляется в пустоту, а если выразиться красивее, в неопределённость, амбивалентность, в нечто подвижное, как ртуть, и никогда не принадлежащее ей до конца. Поэтому так удачливы в любви люди искусства — художники, поэты, реже истинные учёные: они всегда принадлежат не только любимой, а и ещё чему-то, а для женщины это совершенно нестерпимо, она не успокоится, пока не заполучит тебя всего.
Заполучить всего Казанову так же немыслимо, как вообразить застывший огонь: он весь в движении, его страсть к путешествиям и перемене личин отмечена всеми, начиная с него самого. Но эта лихорадочная деятельность лишь маскирует роковую неспособность сосредоточиться на чём-то одном. Казанове недоступна любая глубина, кроме глубины того заветного колодца, куда все мы так стремимся, но откуда, как ни старайся, мудрости не зачерпнёшь.
Его бешеная активность — неизменная спутница поверхностности, умения блестяще и бессмысленно судить обо всём и не о чём; поистине французская эта способность подкреплена в его случае итальянской жовиальностью, переимчивостью и грубоватой выносливостью, каковой сплав и делает Казанову наиболее типичным человеком галантного века.
Восемнадцатое столетие «безумно и мудро», удивительно сочетало брутальность с утончённостью, томность — с живостью, зверство — с изнеженностью, кровь — с парфюмерией, и подлинными героями этого столетия были те, кто одинаково хорошо умел красиво врать, некрасиво убивать и быстро бегать. Герой этого века — жеребец; в лошади, заметим, тоже поражает сочетание изящества и силы, и ещё должно слегка припахивать навозцем. Записки Казановы есть именно записки такого жеребца, простовато упоённого собственными статьями.
Всё это очень мило, но не в десяти же томах и не на восьмистах страницах, в сокращённом варианте. А сколько погибло, уничтожено дурой-служанкой, искренне считавшей, что для хозяйственных нужд лучше употребить исписанную бумагу, нежели чистую, годную! В её понимании исписанная бумага теряла всякую ценность — мудрая простолюдинка предвосхищала культ пустотности, откровение тончайших умов ХХ века, ценивших в чистом листе возможность всех текстов сразу.
Казанова однообразен, как любовный акт, который, сколь ты его ни расцвечивай, сводится всё к одному и тому же возвратно-поступательному движению, которое, конечно, никогда нам не приедается — но не круглые же сутки!
Описывая любой эпизод, он в первую очередь упоминает о том, как хорошо смотрелся в таком-то и таком-то ракурсе, в таком-то костюме, за таким-то блюдом и напитком, с очередной пошлостью на устах. Все встречные оцениваются по единственному критерию — насколько они прониклись мудростью Казановы, насколько сражены его величием и прельщены красноречием. Кто помог Казанове в достижении очередных наград и выгод, достигнутых, разумеется, не умом и не трудом, но исключительно способностью нравиться тщеславным дуракам, тот умница и благодетель человечества; кто не оценил Казанову и попытался воздвигнуть препятствие на его блистательном пути, тот скряга, идиот, трус или мошенник, в то время как собственное мошенничество Казанова числит по разряду художества.
Никакого вольномыслия мы у него не обнаружим: «якобинец» для него ругательство, Робеспьера он ненавидит, богатство обожает, перед знатностью раболепствует. Если у Бендера наличествуют хоть минимальные убеждения, заставляющие предположить в нём и совесть, и демократизм, и даже своеобразную милость к падшим, Казанова убалтывает самого себя с той же лёгкостью, что и бесчисленных партнёрш: что ни говори, а распущенность хороша в меру. Переходя за некий предел, она чревата необратимыми нравственными последствиями.
Читать дальше