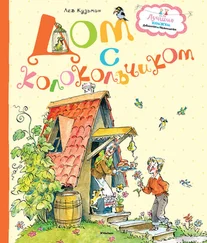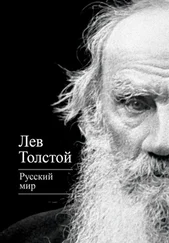Даня же свободен. Ради своего «творчества» он перешагнул (с помощью подкинутых автором обстоятельств) через любящую его и нуждающуюся в нём женщину. Искусство требует жертв. А жертвы – они ничего не требуют.
Даня и Левыкин образуют красивую пару. Но почему без пары остаётся Кугельский – бездарный журналистишка, уверенный, что пишет тайком от мира «главную книгу»?
Тут я, кстати говоря, совершил локальное литературоведческое открытие. В образе Кугельского автор обессмертил меня. Всё сходится: оба низкого роду, оба любим доносы (то есть не любим, но они у нас почему-то хорошо получаются: всего-то пара цитат – и готово); роман Кугельского назывался «Остров», я тоже обдумывал такой вариант названия своего не для тиснения предназначенного, но всё равно выдающегося романа. Кугельский любит кавычки, в моём творчестве их тоже хватает, Кугельский ослеп, и у меня очки.
Извините, шучу.
Знаете, Дмитрий Львович, проходил сегодня по улице Бочкова, постоял у мемориальной доски: «Здесь с семьдесят первого по семьдесят четвёртый год жил Василий Шукшин». Там ещё памятник, ну Вы знаете, очень хороший.
И подумалось. Вот жил человек. Тоже выводил «типчики», тоже скотство всё это людское ненавидел. Переживал, злился, «Кляузу» писал в «Литгазету». Много курил. Но всё равно прощал, жалел их. Потому что знал изнутри.
А Вы называете жалость «брезгливым чувством».
Вы противопоставляете себя Кугельскому – напрасно. Вы лучше в порядке эксперимента Шукшину себя противопоставьте.
Народ, который Вы ненавидите за его икоту и скотство, как-то всё же выскреб, выцарапал из себя этот памятник. Внизу, на самодельной фанерной полочке лежат цветы.
Дико извиняюсь, но можете ли Вы вообразить памятник оставившему столь заметный след в российской словесности уважаемому себе?
И в том ли причина, что словесность сия мертва, как всё русское?
Может, не в ней дело?
Вы очень хорошо пишете, что забитый и униженный человек обретает возможность «взлетать», когда давление на него достигает последнего предела – вроде как у нищего отняли его рубище и он перестал быть нищим, став голым, то есть попросту человеком. Но взлететь Вашим героям почему-то мало: им нужно обязательно отомстить, превратив обидчиков в тщательно описываемые Вами мясные лужи. Кугельского в отместку за донос ослепили… А ведь «Мне отмщение, Аз воздам». Не доверяете Никому это дело?
Вы пишете о прощении, но как поступка, как действительного события в романе его нет. Как нет и любви.
Даня не любит ни отца, ни брата и забывает Надю. Он лишь привязан к своему детскому восприятию матери, к морю, у которого вырос, к быту Воротниковых, короче говоря, к «хорошим местам». Людей в этих местах нет. Они не важны.
Ваше пресловутое жизнелюбие, противопоставляемое диким обычаям немилого Вам народа («больше всего труп любил увековечивать мёртвых») – это любовь к себе. К тому, чем можно овладеть, полюбоваться, что можно съесть.
Того, что не для Вас, Вы не любите. Как не любит Ваша Надя опекаемых ею стариков – слишком уродливы.
Вот Вам и разгадка, почему всё кажется «мёртвым».
Почему нет качественно удовлетворяющей Вас обратной связи (что, в свою очередь, заставляет Вас писать всё больше и больше).
Вы не попадаете в читателя.
Признательность и любовь дарит Вам ближний круг, а дальше, там где ненавистные «миллионы», – пустота.
«Сдохли они там все, что ли?!»
Говорите, что сдохли, но тут же пробуете достучаться ещё и ещё раз. Дмитрий Львович, это же экстенсивный метод хозяйствования! Говорят, он погубил советскую экономику…
Ну и последнее. В романе предпринята попытка отмазать масонов от участия в Февральской революции и развале государства. Дескать, лёгкие шутейные люди, их, можно сказать, и вовсе-то не было.
Любопытно, найдётся ли писатель, который взялся бы убедить общество в несуществовании черносотенцев?
Чувствуется, что нет. Знаете, почему?
«Не наш метод».
Это вас, если вам так угодно, не было. Мы-то были.
«– Нам вот всё представляется вечность как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится».
Когда-то это рассуждение Свидригайлова из романа «Преступление и наказание» было предназначено смущать умы. Сегодня в нём, скорее, видится утешение: спасибо, что хоть баньку оставили. Я в своём интернет-дневнике провёл что-то вроде опроса: «Как вы представляете себе вечность». Знаете, что ответили?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

![Лев Стекольников - Кладоискатель ABC [Сборник фантастических и приключенческих произведений]](/books/24907/lev-stekolnikov-kladoiskatel-abc-sbornik-fantas-thumb.webp)
![Лев Давыдычев - Мой знакомый воробей [сборник]](/books/33967/lev-davydychev-moj-znakomyj-vorobej-sbornik-thumb.webp)