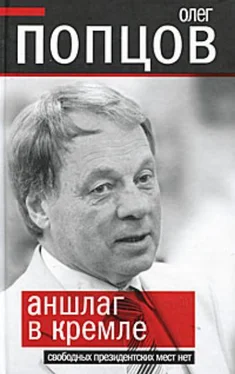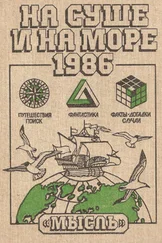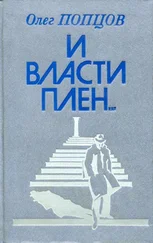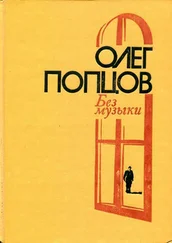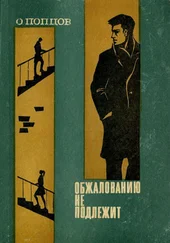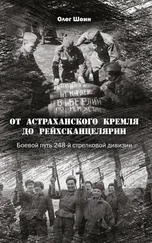Народ был образован, знал, понимал, но, существуя под прессингом вселенского страха, молчал. Но как только прессинг страха ослабевал, образованный народ начинал говорить. И тогда страх по закону обратного действия охватывал власть. И, жизнь билась в стране, как мечущаяся стрелка барометра: культ личности, на смену ему хрущевская оттепель и почти в затылок к ней — хрущевский волюнтаризм с гонениями на художников и поэтов.
Анекдот той поры очень точно передавал состояние того самого общества вечного светлого будущего. Президент США Ричард Никсон выговаривает «дорогому Леониду Ильичу Брежневу»:
— Господин Брежнев, какая же у вас демократия? Вот у нас в Америке, каждый может подойти к Белому Дому и во всеуслышание критиковать президента Соединенных Штатов.
Брежнев в ответ:
— Так и у нас так же, господин Никсон, каждый может выйти на Красную площадь и абсолютно свободно критиковать президента Соединенных Штатов.
А затем горбачевская перестройка и попытка демократических реформ. Реформы в полном объеме не случились, а вот «разговорить» страну Михаилу Горбачеву удалось. Мнения в партии разделились. И, хотя в целом партия приняла свободу слова, это давало возможность, в том числе, и партийному руководству сравнительно открыто критиковать своих партийных оппонентов, но чувство массовой свободы партийных чиновников крайне настороженно. Им бы хотелось поле критики замкнуть рамками среды обитания высших чиновников. Но свобода слова повела себя неадекватно. А когда отменили 6-ю статью Конституции и КПСС лишилась роли единственной правящей партией, мы оказались в другой стране. Была предрешена не только судьбы свободы слова, но и судьба Советского Союза. Культ КПСС с ее жесткой партийной дисциплиной, а порой дисциплиной беспощадной, были теми обручами страха, которые стягивали страну и держали ее, как единое целое. Увы, но это именно так. Ушел страх перед правящей, всемогущей восемнадцатимиллионной партией, которая присутствовала всюду. В детских садах, в школах, в ЖЭКах, больницах, на заводах, в институтах, в театрах, в армии, КГБ, комсомоле, профсоюзе, в каждом доме, и в каждой квартире. И, более того, в каждой постели. Бесспорно, в процессе перестройки КПСС изменилась. Но это ей не помогло.
Впрочем, другой она становилась уже при Хрущеве и, тем более, Брежневе. Ничего удивительного в том нет: нам трудно признать, что в великом Советском Союзе, объединяющей силой была энергия страха. Нет, идеи интернационализма, гордость за построенную первую в мире страну социализма, которая стала знаковым фактором в мировом развитии, были. Как и гордость за военную мощь великой державы, и победа в немыслимой войне с немецкими захватчиками, и покорение космоса, все было сверхвесомо и сыграло роль усиления веры в значимость страны. И, тем не менее, страх оказаться вне этого присутствовал всегда. Собирал воедино все лучшие человеческие качества, народную волю и его великое трудолюбие все-таки страх. И прежде всего, страх поступить не так, как положено и продиктовано решением партии. И на целину ехали побуждаемые партией, и на ударные стройки, но еще и потому, чтобы не оказаться изгоями, поступившими «не как все», охваченные «единым порывом». Такая вот странная технология. И если вдуматься: китайская модель развития держится на этом объединяющем компоненте, внедренным теперь уже в китайскую ментальность страха и подчиненности коммунистической партии Китая.
И вот объединяющий страх ушел. И мы вроде бы живем, не голодаем. Правда, страны, в том понимании — великой страны больше нет. Что же пришло на смену? Я не хотел бы разбивать на составляющие наши приобретения, а параллельно — наши утраты. Уже было замечено, что это рискованное сравнение. Счет, как правило, оказывается не в пользу приобретений. Впрочем, очень многое зависит от того, ориентируясь на какую шкалу ценностей вы делаете подобный анализ.
Главный вывод, который напрашивается: чувство свободы, пришедшее на смену чувству страха, разобщило нас. Это логично.
Но если свобода способна нас только разъединить, как сохранить единое государство, которое и делает нас сильными? А проще говоря, чего мы должны бояться в этом мире обретенной свободы? Боже мой! Сам-то я понимаю, что говорю? Ладно, психиатры разберутся. Обратите внимание, мы вновь возвращаемся к образу страха, к чувству опасности, которые должны объединить нас перед непредсказуемыми вывертами свободы. Следовательно, сам по себе страх не есть абсолютный порок. И сегодня он нам необходим более, чем когда-либо. Мы непременно начнем уточнять, что страх подавления, унижения, страх перед жесткостью, страх перед несправедливостью — это, конечно же, порок. А страх остерегающий или просто осторожность, страх перед нарушением закона или законопослушность, правовая культура, страх быть осужденным обществом или соблюдение элементарных общепринятых правил жизни среди людей — все это что? Иной страх? Страх благородный, если вообще запуганность может быть благородством? А тогда вопрос, где грань перед одним и другим страхом? Всякая классификация уязвима. Если мы не можем жить без страха, и некий «норматив страха» обязателен, а свобода, как среда, разобщает нас, так что же нам делать? Какой страх может, не угнетая, не преследуя, объединить нас? И существует ли он в природе? Ба! Существует! Это страх утратить обретенную свободу. Почему мы не осознаем этого? Потому что обрели свободу, не обрамленную законом. В стране, переживающей очередной революционный синдром, любое развитие имеет одну и ту же особенность: сначала — процесс, а затем — закон. По этому принципу шли все наши реформы. Законы опаздывали, процесс уходил вперед и правил страной Беспредел, а не Власть и Свобода.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу