Сказать «ум, честь и совесть» немыслимо даже об академике Сахарове. «Догнать и перегнать» можно только Америку, хотя это и невозможно. «Нынешнее поколение» бывает только одно, и точно известно, где оно будет жить, хотя там-то оно жить точно не будет. И далее: «перестройка», хоть бы и сарая, в языке невозможна. Исчезают неповинные «структура» и «пространство», задавленные эпитетами вроде «мафиозная» и «правовое».
Та небывалая концентрация опустошенных слов, которая приходится на наше время, на совести прежде всего техники, коммуникационных систем, средств массовой информации. Как, впрочем, и могущество идеологии — следствие тех же технических достижений. Сама же словесная инфляция — явление, знакомое каждому поколению. При этом чем проще слова — тем труднее их произнести просто.
«Где умный человек прячет лист?» — спрашивает честертоновский патер Браун и сам же отвечает: «В лесу». Свои настоящие слова Беатриче и Бенедикт прячут в ворохе слов, ведя пикировку, увлекающую читателя и зрителя уже четыре столетия, обрушивая друг на друга потоки звуков, — только по одной причине: они слишком изысканны, умны и образованны, чтобы снизойти до примитивного словоизъявления: «Я вас люблю». Или как в дневниках Ильфа: «Он не знал нюансов языка и потому говорил сразу: «О, я хотел бы видеть вас голой!» Шекспировские остряки как раз знают только нюансы, пока жизнь не заставляет этих интеллектуалов подняться с высот острословия к вершинам сладострастного мычания.
Страх прямого слова — авторская проблема. Позже Шекспир зафиксировал эту заботу в гениальном афоризме: когда на вопрос: «Что вы читаете, принц?» — Гамлет отвечает: «Слова, слова, слова».
В «Много шума из ничего» такого сгущения мысли нет — на то она и комедия. Словесный шквал несет персонажей, обессмысливая поступки и заводя в сюжетный тупик. Впрочем, в нем оказывается автор, а герои — в жизненном. Господство слов приводит к трагедии: из «ничего», из звука пустого, случайного слова, перепутанного имени рождается не шум, но гибель. И вот тут опять потрясает пресловутая современность Шекспира — не удержусь все же от банальности. Выход он находит — в абсурде.
Абсурд в пьесе (и в фильме) материален: это пристав Кизил и его помощник Булава — предки персонажей Кафки, Введенского, Хармса, Беккета. Они не в состоянии закончить ни одной фразы и выразить ни одной мысли, они все путают и несут великолепную чушь: «Красота — это дар судьбы, а грамотность…», но именно они доводят сюжет до хеппи-энда. В их безумии есть система, в конечном счете они не более ненормальны, чем притворяющийся Гамлет, а одна из несуразных реплик Кизила звучит исчерпывающей рецензией на словесный концерт Беатриче и Бенедикта: «Разговаривать да болтать — дело самое дозволительное и никак не допустимое».
Слова как бы перетряхиваются, упорядочиваясь. Нелепый язык этих шутов, контрастируя с избыточным лексическим мастерством героев, останавливает инфляцию слов, выводит речь к некой норме, именуемой жизнью, во все времена, шекспировские или наши.
В итоге вместо одной пьесы «Много шума из ничего» — сразу три. На внешнем уровне — мелодрама. С подключением сексуально-словесных сражений Беатриче и Бенедикта — интеллектуальная трагикомедия. С вторжением Кизила и Булавы — драма абсурда. Схема напоминает твою собственную жизнь, только все роли и исполняешь сам.
Чтобы не забыть, что поводом к разговору послужил новый фильм Кеннета Брана, который в нем еще и сыграл роль Бенедикта, добавлю: все, что заложено в шекспировской комедии, есть в картине. Еще в ней есть превосходная актерская игра, изумительной красоты тосканский антураж, много света и цвета, много музыки, много шума — и ничего. Совсем даже ничего. Даже хорошо.
1993
Роберт Олтмен поразил киномир в 70-е, пообещав стать ведущим американским режиссером, но потом ушел в долгое подполье и лишь года два назад вновь вышел на культурную поверхность. Обе его новые картины показали, что Олтмен стилистически верен себе: это снова многофигурные мозаики с хаотическим движением сюжета, как и его прославленные ленты двадцатилетней давности — MASH («Военный госпиталь») и «Нэшвил». Ничуть не утрачен и публицистический пафос обличителя, и если в первом после перерыва фильме — «Игрок» — сатирическому вскрытию подвергается Голливуд, то в последнем — Shortcuts — все американское общество в целом.
Это название я пишу по-английски не из снобизма, а от беспомощности. Shortcuts — и быстрая смена кадров, рубленый монтаж, и фрагменты, отрывки, обрезки, и кратчайшие пути, срезание углов. Олтмен имел в виду все сразу и много чего еще, а мы для краткости остановимся на «Отрывках».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
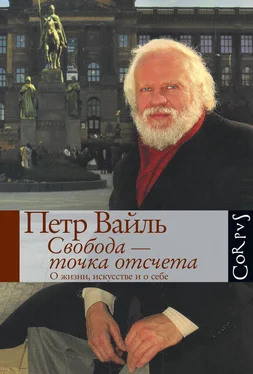
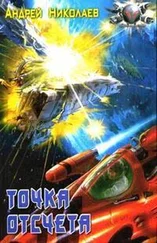


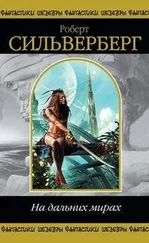
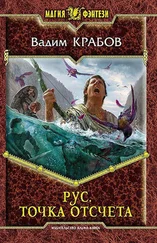


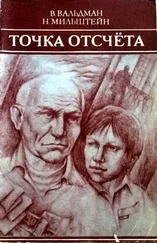
![Пётр Вайль - Картины Италии [litres]](/books/431865/petr-vajl-kartiny-italii-litres-thumb.webp)


