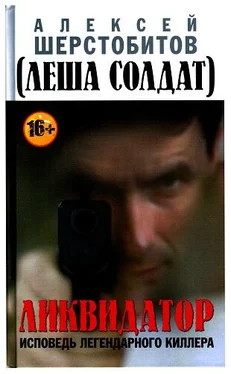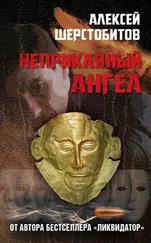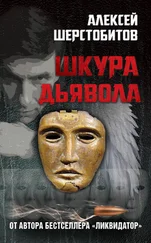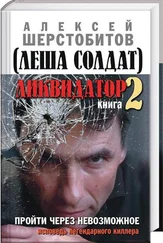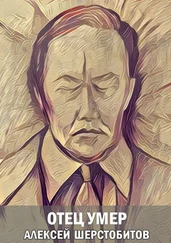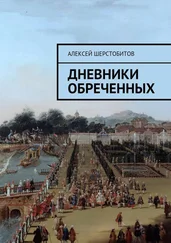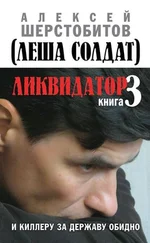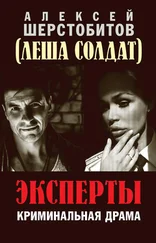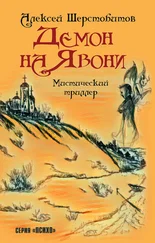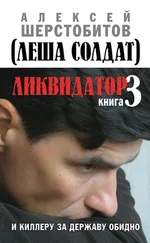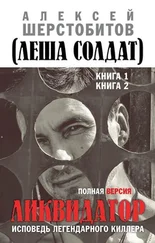* * *
Уже началась зима. Ради развлечения, хотя это осталось известно только двоим, к «Осе» прилетел человек, ни мне, ни Саше не знакомый — полковник ФСБ, который привёз в подарок Сергею женщину явно самой древней профессии, и не подумайте, что журналиста. Правда, несколько на свой экстравагантный вкус — с горящими глазами, всегда в новой шляпке, вуали или перчатках. Фланировала она между нами, безошибочно, как мотылёк, выбирая место выгодно падающего света, выделявшего всё необходимое, действующее на мужское начало, при этом всегда видя всех, а главное — слыша. Меня она не привлекала, что немного её злило, хотя чувство это было наиграно, и сквозь него просвечивалась мягкая благодарность, так как оплаченные слишком хорошо обязанности, куда, как кажется, входили и все желающие её мужчины, несколько тяготили, и не только её тело.
Полковник рассказывал занятные вещи, периодически уединялся то с Буториным, то с телефоном, то с мадам, а потом и вовсе исчез, оставив нам свой бесценный подарок, который, заходя ко мне в тогда ещё номер, снимаемый в гостинице, спрашивал разрешения просто посидеть и перевести дух, и впоследствии тоже растворился, оставив, в виде напоминания о себе, пару перчаток с высоким раструбом, причём на одну руку, и ленточку от шляпки.
Я не спрашивал, кем был этот мужчина и «координатором» чего именно, как отозвался о нём один из его постоянных собеседников в разговоре с «Культиком».
Более ценным подарком были десяток книг, которые привезла эта загадочная парочка. Они проглатывались с удивительной быстротой и доставляли удовольствие большее, нежели все фильмы и передачи, ранее здесь просмотренные — хороша ложка к обеду.
Одной из книг была тоненькая биография Александра Македонского, увлёкшая меня тогда и ставшая буквально страстью на добрые полтора десятка лет. Я искал и читал всё, что касалось великого полководца и незаурядного человека, его окружения или просто того времени, а история эллинизма в двух томах Дройзена стала любимой и направляющей на этом поприще. Всё окончилось идеей, а в конце — выплеском накопившегося в поэме на 100 страниц, так никому из ныне живущих на суд и не представленной. То время, которое я на это потратил, доставило мне огромное удовольствие и азарт — никогда не думал, что подобная страсть присуща людям пишущим в их занятии.
Интересное замечание: сам процесс написания расставляет по местам факты и упорядочивает работу мозга, делая более приятным язык общения, упрощает составление слов в фразы, несущие в своей минимальности грандиозную суть.
В своё время я осознал, что какую-то часть истории Греции знаю довольно неплохо, но, учитывая провалы в изучении истории государства Российского, это был скорее недостаток. Поэтому стал читать «Историю России» Татищева, с переключением на Карамзина, Костомарова, Соловьёва, Данилевского, Павленко, Валишевского, Р. Скрынникова, Тарле и других столпов исторической науки, писавших и изучавщих уже пласты временные и эпохальные. Но позднее более интересным мне показалось познание истории через биографии людей, сыгравших видную роль в становления государства — от великих князей и царей до выдающихся министров и людей искусства. Очень полюбились мемуары и воспоминания. Чтение, на мой взгляд, даже не как источник знаний, а занятие вообще — прекрасное и удивительное спасение от любых нервных потрясений и печалей, а такая небыстрая, вдумчивая манера, какая сложилась у меня, позволяет наслаждаться каждой прочитанной строчкой, если, конечно, стиль и содержание позволяют.
Эту привычку я приобрёл ещё в военном училище, где усилиями одной барышни, работавшей в библиотеке, полюбил Ф.М. Достоевского, и так в него углубился, что осилил все его собрание сочинений в тридцати трёх томах, включая и тома писем. Если не читать Фёдора Михайловича внимательно, то можно не читать вообще. Кстати, после него я перестал брать по абонементам беллетристику совсем, отдавая предпочтение публицистике и мемуарному жанру. Правда, был пробел в чтении в несколько лет из-за неспокойности и утрамбованной жизни и из-за известных событий. Попав же в тюрьму, я открыл для себя В.В. Крестовского, С.Т. Цвейга, Эфрайма Севвелу, Л. Улицкую, Д. Быкова, Константина Симонова, Умберто Эко, И. Шмелёва, С. Булгакова, П. Флоренского, Нилуса, по-прежнему увлекаясь историей и воспоминаниями. Отдельной темой стала православная литература, показавшая непоследовательность философии и психологии как наук, применимых к самому себе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу