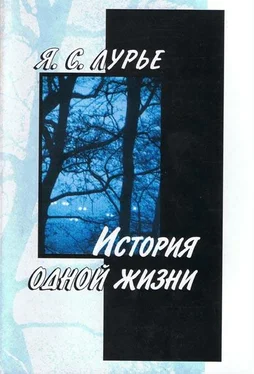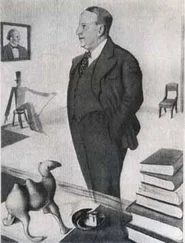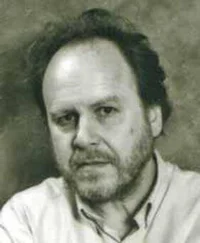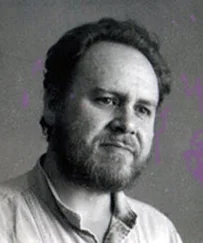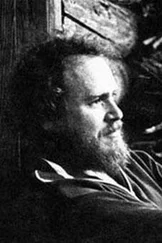…В конце жизни судьба свела Соломона Лурье с Надеждой Мандельштам. Та почему-то заподозрила в новом знакомом «поклонника Маяковского» — и промахнулась: он был вообще глух к современной поэзии, читал лишь Сашу Черного, пренебрежительно относился к Блоку, в Анненском ценил только переводчика Еврипида, а сам увлекался — Аристофаном с его публицистичностью, натурализмом и фривольностями. Любил, говоря попросту, третий штиль в искусстве, где разуму дан больший простор, чем сердцу. В эстетике Лурье-средний был достойным сыном Лурье-старшего.
Соломон Лурье был чужд зависти. Гениальный мальчишка, англичанин Майкл Вентрис (1922-56), опередил его в расшифровке линейного минойского письма В. Другой бы зубами скрежетал, а этот радуется, восхищается Вентрисом, пишет ему восторженное письмо (ответ получает по-русски; Вентрис выучивал языки шутя), держит его портрет на своем письменном столе… Самому Соломону Яковлевичу не посчастливилось сделать столь эффектного лингвистического или исторического открытия, но из истории науки его не выкинешь. К великой досаде большевиков, заезжие западные эллинисты слишком часто знали только одно имя из всего длинного списка своих советских коллег — имя Salomo Luria.
Яков Соломонович Лурье
Памятливый народ евреи! И хорошее, и плохое помнят. Правда, помнить им — есть о чем (как сказали бы в Одессе), но тут неясно, где причина, а где — следствие. Ясно только, что при наличии выбора лучше принадлежать к евреям, если хочешь след по себе оставить. Больше шансов. А то, глядишь, на другой день после смерти тебя как раз и забудут. В России постройки деревянные, в Европе — каменные, а евреям — им всё нерукотворные памятники подавай.
Третий Лурья (1921-1996; Ya. S. Luria за границей, Яков Соломонович Лурье в России) был, как пишет БЭС, «российский литературовед, доктор филологических наук (1962)». Был он еще и историком, занимался преимущественно российским прошлым. Издал книги:
Идеологическая борьба в русской публицистике XV-XVI веков (1960),
Повесть о Дракуле (1964),
Истоки русской беллетристики (1970),
Общерусские летописи XIV-XV веков , и др.
Мы, в большинстве своем, этих книг не прочли, но не сомневаемся: они сделаны на совесть. Такая уж семья кряжистая.
Написал он и о своем отце. Написал жестко, точно, без восхваления, патетики и сыновней сентиментальности. Скорее критически, чем восторженно. Он вглядывается в жизнь отца, чтобы понять свою — и нашу. Он нигде не прибегает к местоимению первого лица единственного числа (а это, что ни говори, первейший признак хорошего стилиста; ведь мы, о чем бы не писали, всегда о себе-любимом пишем, так уж лучше обходиться без яканья хоть там, где это удается).
Его книга хороша в тех местах, где он историк. Например, в описании перерождения советского большевизма в русский шовинизм в 1930-40-х годы — и шире: о вырождении революционного государства, на глаза скатившегося в свою противоположность. Картина так полна и убедительна, что ее стоит коротко пересказать.
Еще до войны — в СССР запрещены аборты и восстановлены воинские звания. В 1940-м появляется звание генерала; после Сталинграда — погоны; красноармейцы становятся солдатами, краснофлотцы — матросами, командиры — офицерами. В школах — вводят раздельное обучение. Отменяется свобода расторжения брака. Вся ответственность за внебрачных детей целиком перекладывается на женщин (как раз вовремя; в войну таких женщин будут миллионы). Война приносит еще нечто забытое: преступников не только расстреливают, но и вешают. (Как при царе! Преемственность между империей и СССР больше не отрицается. Даже война с немцами кажется продолжением той, первой. Песня «Вставай, страна огромная!» со слегка подправленными словами заимствуется из 1914-го.) Частично восстанавливаются права и институты церкви, причем делается это с подачи нацистов; это они, оккупанты, открыли Киево-Печерскую лавру. В ответ Сталин в срочном порядке назначает в Москве патриарха, чей престол пустовал 18 лет. Церковь раболепно приносит «общесоборную благодарность» кремлевскому горцу: «глубоко тронуты сочувственным отношением нашего всенародного Вождя, Главы Советского Правительства Иосифа Виссарионовича Сталина». Ложь о катынской расправе подписывает (вместе с Алексеем Толстым) второй иерарх русской православной церкви.
Читать дальше