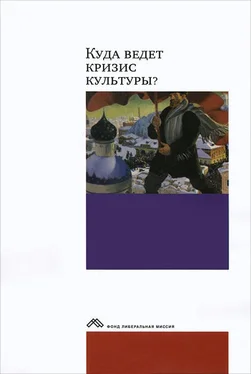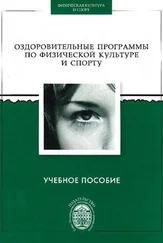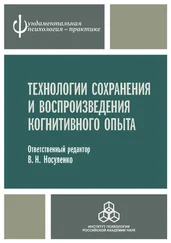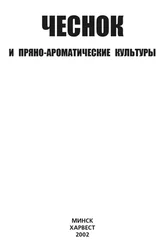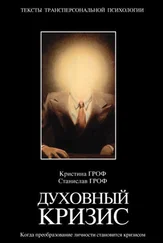Флоровский Г. Указ. соч. С. 39.
Там же.
Между прежними славянофилами и Данилевским есть то различие, пишет Вл. Соловьев в статье «Россия и Европа», что «те утверждали, что русский народ имеет всемирно-историческое призвание, как носитель всечеловеческого окончательного просвещения; Данилевский же, отрицая всякую общечеловеческую задачу, считает Россию и славянство лишь особым культурно-историческим типом, — однако наиболее совершенным и полным… совмещающим в себе преимущества прежних типов… Должно, однако, заметить, что коренные славянофилы (Хомяков, Кириевские, Аксаковы, Самарин), не отвергая всемирной истории и признавая, хотя лишь в отвлеченном принципе, солидарность всего человечества, были ближе, чем Данилевский, к христианской идее и могли утверждать ее, не впадая в явное внутреннее противоречие» ( Соловьев В. С. Указ. соч. С. 336–337).
Бердяев Н. Душа России // Русская идея. М., 1992. С. 300.
С. Л. Франк называл русский национализм «мистической национальной самовлюбленностью». В письме к Г. П. Федотову он писал: «Русский национализм отличается от естественных национализмов европейских народов именно тем, что проникнут фальшивой религиозной восторженностью и именно этим особенно гибелен. Славянофильство есть в этом смысле органическое и, по-видимому, неизлечимое нравственное заболевание русского духа (особенно усилившееся в эмиграции). Характерно, что Вл. Соловьев в своей борьбе с этой национальной самовлюбленностью не имел ни одного последователя. Все, на кого он имел в других отношениях влияние, — и Булгаков, и Бердяев, и Блок, — свернули на удобную дорожку самовлюбленности. Бердяева это прямо погубило…» ( Франк С. Л. Русское мировоззрение. СПб., 1996. С. 99).
Федотов Г. П. Судьба и грехи России. М., 2005.
Флоровский Г. Указ. соч. С. 43.
Трубецкой Е. Н. Старый и новый национальный мессианизм // Русская идея. М., 1992. С. 255–256.
Примером подобного неприятия может послужить мнение В. Ф. Эрна, который в статье, посвященной только что открывшемуся журналу «Логос», попытался поставить под сомнение какую-либо ценность всей европейской философии Нового времени, противопоставив ей в качестве образца подлинно философской мысли русскую религиозную философию. «Такого огульного и безмерного национального самомнения в области философии, — пишет С. Л. Франк об этой статье, — нам до сих пор не приходилось встречать» ( Франк С. Л. Указ. соч. С. 104). «Конечно, прискорбно, — завершает он свою полемику с Эрном, — когда молодые русские философы поклоняются каждому слову Риккерта или Когена и не читают Вл. Соловьева и Лопатина, или не замечают их философского значения. Но, быть может, еще более прискорбно то националистическое самомнение, которое в оценке национальной философии не знает меры и перспективы и дерзостно попирает вечные ценности европейской мысли» (Там же. С. 112).
Русский узел евразийства. М., 1997. С. 102.
Там же. С. 109.
Примером абсолютизации данной теории в современном историческом познании может служить изданный в 1998 году сборник статей «Русско-славянская цивилизация: исторические истоки, современные геополитические проблемы, перспективы славянской взаимности». Составитель этого сборника Е. С. Троицкий, причисляя всех теоретиков локальных цивилизаций (от Данилевского до Шпенглера) к людям, совершившим «научный подвиг», совершенно упускает из виду (я бы сказал, намеренно упускает) критику этой теории наиболее выдающимися русскими философами, прежде всего Вл. Соловьевым. «Пора, — призывает Е. С. Троицкий, — взять на вооружение его (Данилевского. — В. М. ) выводы». Как будто критика этих выводов русскими философами — менее значительный вклад в отечественную и мировую науку.
«Смысл существования наций, — писал Вл, Соловьев, — лежит не в них самих, но в человечестве», которое есть не абстрактное единство, но, при всем своем несовершенстве, «реально существует на земле», «движется к совершенству… растет и расширяется вовне и развивается внутренне» (Русская идея. М., 1992. С. 192). Можно спорить с тем, как понимал Вл. Соловьев это единство, в чем видел его приоритеты, но нельзя оспорить сам факт признания им такого единства. Любая нация, согласно такому пониманию, существует в зазоре между этнической обособленностью и сверхнациональным единством, локальным и универсальным, являя собой синтез того и другого. Схематически всю цепь можно представить в виде формулы «этнос — нация — сверхнациональное единство (человечество)», в которой нация — лишь среднее звено между ее крайними полюсами. В качестве нации народ не исчезает, не растворяется полностью в наднациональном пространстве, а включается в него с минимальными для себя потерями, с сохранением своей собственной самобытности.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу