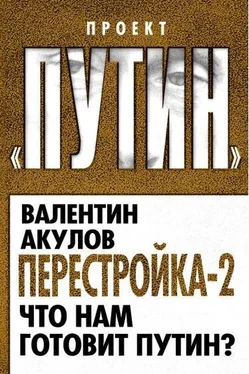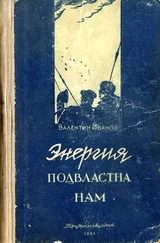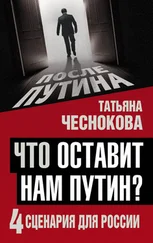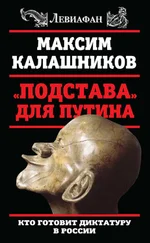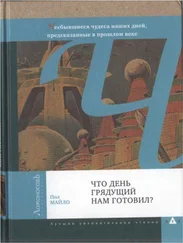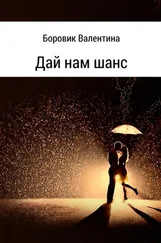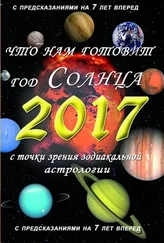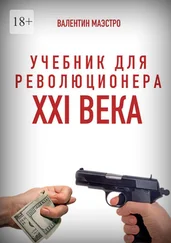От чего же зависит тот или иной тип поведения, чем он детерминирован? Автор напрямую об этом не говорит. Но в этом нет и необходимости. Разве вы позабыли уже, что распределение при капитализме носит рыночный характер, а при социализме - иерархический, основанный на «системе статусов», что первый обмен - эквивалентный, а второй - неэквивалентный, предполагающий дополнительную ренту на статус? Или вы думаете, что преимущество капитализма ограничивается сферой обмена и не затрагивает всю систему экономических (и не только экономических) общественных отношений? Тогда вы ничего не понимаете ни в капитализме, ни в социализме. Социалистическая экономика с ее «ничейной» (М. Горбачев) собственностью на средства производства лишена, по мнению Ореховского (взятому, правда, напрокат у Хайека и Мизиса), экономических стимулов для своего развития, в ней здоровый частный экономический интерес подменен суррогатом «статусов», а «производительное поведение» - поведением «рентоориентированным». Рентоориентированные субъекты хозяйствования» в силу своего статуса являются противниками каких бы то ни было инноваций, ибо любая инновация грозит их привилегированному положению в социальной иерархии. «То, что абстрактное большинство или общество в целом получит от инноваций общую выгоду, - поясняет автор свою мысль, - вряд ли может служить для меньшинства аргументом для отказа от своих преимуществ». И напротив, «субъекты с производительным поведением постоянно генерируют инновации, связанные с производством символического капитала и его перераспределением».
Отсюда должно быть ясно, что брежневский «застой» не был случайностью, платой за геронтократию, он был фатально запрограммирован самой природой социалистической экономики. «Сырьевая ориентация» современной российской экономики имеет, по мнению автора, ту же причину: не капиталистический, не рыночный, а распределительный ее характер. Тот, кто видит путь модернизации экономики России в реприватизации важнейших стратегических хозяйственных объектов, в том числе в сфере добывающей и оборонной промышленности, глубоко ошибается. В смысле инноваций это ничего не даст. Ибо только человек с «производительным поведением», он же «эффективный собственник», был и остается подлинным субъектом инновационного развития. Поэтому не «меньше капитализма», а, напротив, «больше капитализма» - вот магистральная дорога России к модернизации и процветанию.
Президентский лозунг «Вперед, Россия!» в его конкретном наполнении и должен звучать так: «Вперед к окончательной победе капитализма!»
В интересах истины я должен признать, что в такой откровенно обнаженной форме автор всего этого не утверждает. Более того, он всячески камуфлирует идеологию своей статьи. Именно поэтому после всего сказанного, не оставляющего ни малейшего сомнения в том, где следует искать источник инноваций, а где - их тормоз, автор вдруг задается тем же вопросом, который был поставлен мной выше: «что определяет выбор между двумя типами поведения?» И начинает глубокомысленно гадать: определяет ли его соответствующая политика государства или он «задается экзогенно, уже сделанным когда-то выбором важнейших культурных и этических ценностей (например, доминирующими религиями - православием и исламом в российском случае)?» Но зачем же гадать? Разве мы уже не слышали ответ? Кто же, как не Ореховский, убеждал нас, что есть два типа распределения: рыночный, эквивалентный, и иерархический, статусный? И разве не этими двумя типами распределения, по его мнению, детерминируется наличие двух типов поведения «экономических субъектов»? Наконец, разве не Ореховский, вкупе и влюбе с Хайеком и Мизесом, ставит марксизму на вид, что тот игнорировал отсутствие у «передового класса» мотивации к инновациям при социализме? Такв чем же дело и об чем шум? А дело в том, что очень уж хочется автору убедить читателя, что «сами по себе политические и экономические институты не могут гарантировать инновационного развития». Но тогда что может? Формы образования и науки, отвечает Ореховский. Важнейшими факторами, предопределяющими инновационное развитие (или его отсутствие), говорит он, «являются формы образования и науки, включая их связи с бизнесом и государством». Признаюсь, это откровение лично меня повергло в крайнее недоумение. Как же так? Разве наука и образование - это особое царство, живущее своей замкнутой, автономной жизнью, а не компонент общественной жизни, подчиненный законам экономики и политики? И разве не экономика и политика определяют, в конечном счете, формы организации образования и науки, стратегию их развития? Но об этом - ниже.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу