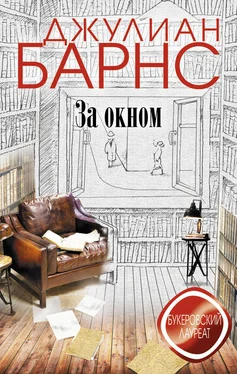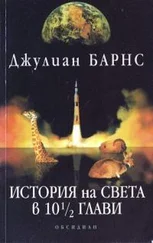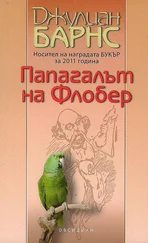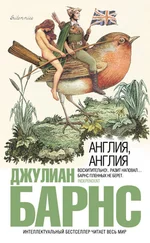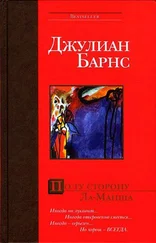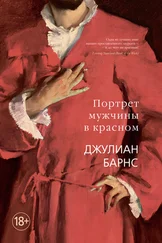Но скорбь, или «печаль», — это нечто иное. Сама природа всегда подсказывает нам способы отрешиться, а значит, избавиться даже от болезненных эмоций, таких как страх, ревность, гнев:
Но средства от скорби природа нам не дает. Скорбь обыкновенно вызывается необратимыми обстоятельствами и направлена на объекты, утратившие или изменившие свое существование. Она требует того, на что нельзя надеяться: отмены законов природы, возвращения из мертвых, поворота к прошлому.
Если у нас нет веры в полное воскрешение тела, мы понимаем, что никогда более не сможем, в земном смысле, лицезреть своих усопших близких: нам их не увидеть, не услышать, не дозваться, не коснуться, не обнять. За четверть тысячелетия, что минула с тех пор, когда Джонсон описал ни с чем не сравнимую боль скорби, мы — во всяком случае живущие на секуляризованном Западе — не стали хоть сколько-нибудь лучше понимать, как справляться с утратой, а следовательно, и с ее эмоциональными последствиями. Безусловно, на определенном уровне сознания мы понимаем, что все мы смертны; но смерть в наше время рассматривается скорее как бессилие медицины, а не как норма человеческого существования. Все чаще смерть настигает человека вне родных стен, в больнице, в окружении посторонних специалистов — она вверяется профессионалам. А нам, убитым горем профанам, остается по мере сил нести это уникальное и банальное чувство. Социальных норм, которые окружают и поддерживают скорбящих, в наши дни остается совсем немного. От поколения к поколению передается ничтожно мало сведений об их сущности. Страдать полагается относительно беззвучно; принято оставаться «сильным»; плач и стенания, как считается, показывают, что человек «поддается горю», а слезами, по мнению некоторых, «горю не поможешь». Конечно, мы можем утешаться любовью родных и близких, но они, случается, знают еще меньше нашего: их заботливые фразы — «Время лечит», «Говорят, должно пройти два года», «Ты уже выглядишь получше» — зачастую диктуются недостаточной осведомленностью и расхожим оптимизмом. Одни советуют съездить за границу, другие — завести собаку. Третьи услужливо пересказывают сходные, по их мнению, истории о потерях и скорби; эти рассказы порой звучат оскорбительно, но в большинстве случаев просто неуместны. Как писал Э. М. Форстер в романе «Хауардс-Энд», «одна смерть, возможно, объяснима, но не проливает свет на другую».
Смерть расставляет людей по-иному — как скорбящих, так и их окружение. По мере того как жизнь человека, перенесшего утрату, помимо его воли перенастраивается, узы дружбы нередко подвергаются испытанию на разрыв: одни выдерживают, другие нет. Мужчины, как правило, оказываются более неуклюжими, сдержанными и бесполезными, чем женщины. Порой случаются непостижимые вещи: люди, объединенные утратой, начинают состязаться в скорби: моя любовь к нему / к ней была сильнее, и я докажу это, проливая больше слез. А сам овдовевший — законный или гражданский супруг — подчас становится болезненно обидчивым и легко выходит из себя: как от докучливого, так и от недостаточного внимания, как от болтливости, так и от немногословия.
Иногда такой человек начинает странным образом соревноваться сам с собой, испытывая безотчетную потребность доказать (кому?), что его скорбь — глубже, тяжелее и чище (чем чья?).
Одна моя знакомая, овдовевшая в шестьдесят с лишним, сказала мне: «Это самый паршивый возраст, когда такое может случиться». Наверное, имелось в виду, что в семьдесят с лишним можно было бы спокойно сидеть и ждать собственной смерти, а в пятьдесят — начать жизнь заново. Но в подобных обстоятельствах человеку паршиво в любом возрасте, и, сколько ни гадай, правильного ответа на вопрос «а если бы?..» не найти. Как сопоставить горе молодого отца или матери, оставшегося с малыми детьми на руках, и горе старика, у которого смерть отняла самую родную душу после прожитых вместе пяти или шести десятков лет? Скорбь не ведает градаций, это лишь вопрос ощущения. Другая знакомая, чей муж после полувека супружества скоропостижно скончался в зале прибытия аэропорта, у багажной ленты, на глазах у плотной толпы пассажиров, написала мне: «Природа в этом вопросе исключительно точна. Она отмеряет нам ровно столько боли, сколько полагается».
Джоан Дидион была замужем за Джоном Грегори Данном сорок лет и потеряла его в декабре 2003 года: он на полуслове оборвал свой тост, собираясь выпить перед ужином вторую порцию виски. Джойс Кэрол Оутс и Рэймонд Смит прожили вместе «сорок семь лет и двадцать пять дней», когда Смит в феврале 2008-го, находясь в больнице, уверенно шел на поправку после пневмонии, но стал жертвой вторичной инфекции. И в первом, и во втором случае супруги-литераторы были необычайно близки, но никогда не соперничали, зачастую работали в одном кабинете и почти никогда не расставались, разве что, в случае Дидион и Данна, «изредка, на неделю, две или три, когда один из нас заканчивал произведение»; а в случае Оутс и Смита — не более чем на пару дней. Дидион после смерти мужа осознала, что «не получала от Джона писем, ни одного» (получал ли от нее письма Джон, она не сообщает); Оутс и Смит «не вели между собой переписки. Никогда не писали друг другу». Черты сходства на этом не заканчиваются: в обеих парах звездой была женщина; оба покойных мужа некогда исповедовали католичество; ни одна из жен не мыслила когда-либо остаться вдовой, и каждая на некоторое время оставила у себя на автоответчике голос покойного мужа. Кроме того, обе решили в течение первого года вести хронику своего вдовства и за двенадцать месяцев закончили соответствующую книгу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу