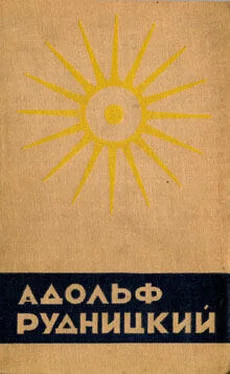Прикосновение меча. Именно потому, что актер ощущает холод стали, он не может кричать. Впрочем, он знает: крик его все равно прозвучал бы смешно, жалко (а актер считает делом чести быть мужественным). Впрочем, он знает: крика его все равно никто не услышит. Актер не может забыть о всей ситуации в целом . Это не он выходит на поединок с другим актером. Не он вступает в спор. Он не хочет добиваться превосходства над противником — в лучшем случае это было бы превосходство над карликом, над собачонкой, над существом, которое кто-то проглотил, заграбастал и которое взывает из глубины чьего-то брюха, даже не сознавая, что сидит в чужом брюхе. Все вопросы, которые он задает, лишены значения, значение имеет занесенный меч. Человек, который стоит напротив, также ранен, значит, они говорят о второстепенном, несущественном. А важно одно: как убрать меч, как сделать, чтобы рана перестала кровоточить!
Иногда кажется, будто актер презирает всё и всех: автора, чьи слова он произносит, партнера, публику. «Почему со мной говорят не о том, о чем надо? Почему они не видят того, что происходит со мной?» В те секунды тишины, которыми актер любит перебивать речь — и свою и партнера, — вязкое дно засасывает нас. А когда актер возвращается к тексту, он уже добился своего: мы вынырнули вместе с ним со дна моря.
Осознание ситуации в целом приводит к тому, что актер постоянно чувствует свою отчужденность и поражает нас своей отчужденностью. Осознание ситуации в целом приводит к тому, что в устах Голубека слова не имеют той автономии, какую обычно приобретают в устах других актеров, в особенности тех, которых публика безоговорочно любит (в то время как Голубек завораживает публику, зачаровывает ее; это не одно и то же). У других актеров мир превращается в слова, а слова в свою очередь приобретают полную автономию, означают то, что означают, и не более того, что означают. Их накал объясняет, почему люди влюбляются или убивают друг друга. У Голубека иначе, в его устах слово никогда не становится обособленным миром. Оно всегда сигнал, молния, осветившая ночное небо.
Столкнувшись с таким явлением, как Голубек, мы вновь находим подтверждение истине, которую на четверть века выкинули на свалку (время от времени самые бесспорные истины отправляются на свалку, а на их место водворяются истины шарлатанские), истине, которая гласит: величайшую силу театра составляет актер. Автор на сцене передает вещь колоссальной важности — слово. Но лишь актеру дано решать, что именно превратится в слово, он последняя инстанция. Говорят, что автор постоянно присутствует на сцене; это неправда. Постоянно присутствует только актер. Слово становится тем, чем он его сделает. Движения, жесты, молчание могут обладать равнозначной глубиной; есть шекспировские образы, лишенные шекспировских слов. Актер, а не автор являет нам мир. И в итоге талант актера решает дело.
Краски у Голубека мрачные, но не черные. Его богатый металлом голос плывет из глубины тайны и раскрывает тайны. Голубек насмешлив, но не бесчеловечен. Он трагичен, но не хочет убивать ни себя, ни нас, напротив — он сочувствует нам. Он принадлежит к той категории актеров, которые играют только себя и которые никогда себя не исчерпывают. Более того, он принадлежит к той категории актеров, которые обязаны оставаться самими собой, ибо весь комплекс актерских средств, который они в состоянии показать, не может быть более интересным, чем они сами.
1959
Она. У меня в квартире появились мыши. Одна рыжая, большая, старая, это мать, а другая маленькая. Сначала они пугались, когда я на них топала, а теперь обнаглели и больше не боятся.
Он. Купи мышеловку.
Она. Мышеловку?
Он. Мышеловку, или яд, или возьми кошку.
Она. Кошку?
Он. Кошку!
Она. И кошка съест мышей у меня на глазах?
Он. И кошка съест мышей у тебя на глазах!
Она. Не хочу, меня замучают угрызения совести.
Он. Брось, новая драма — из-за мышей!..
Она. Ты… ты ничего не понимаешь!
Назавтра он проснулся позже обычного, потому что долго не мог заснуть, и, вспомнив вчерашний нелепый разговор о мышах, сразу понял то, чего вчера не мог понять. Он представил себе ее крошечную комнатку, увешанную коврами и парчой, наподобие турецкого шатра, комнатку, заваленную кожаными подушками, лежащими прямо на полу, большими папками, в которых она хранила свои рисунки, и подрамниками, прислоненными к стене; представил себе, как она сидит на низкой тахте, переделанной из матраца, и топает ногами. Он видел, как она разжигает свой страх, как все сильнее топает, чтобы завоевать себе право говорить об этом, когда они под вечер встретятся в парке. Ей хотелось, чтобы он ее пожалел, чтобы он сказал ей: «Бедняжка моя, ты мучаешься из-за дурацкой мыши, а я ведь люблю тебя ». Ради этого она и рассказала ему историю про мышей.
Читать дальше