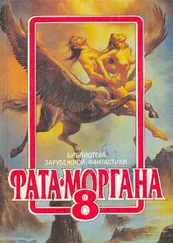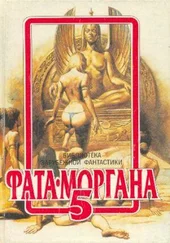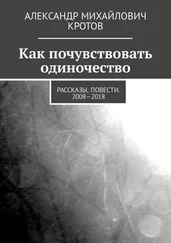И Сац - Рассказы и повести Сенкевича
Здесь есть возможность читать онлайн «И Сац - Рассказы и повести Сенкевича» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Публицистика, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Рассказы и повести Сенкевича
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Рассказы и повести Сенкевича: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Рассказы и повести Сенкевича»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Рассказы и повести Сенкевича — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Рассказы и повести Сенкевича», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Социально-политические условия Польши 70-х и 80-х годов, общественное положение и взгляды Генрика Сенкевича доводили до крайности внутренние противоречия его таланта. Это видно не только в его произведениях среднего и позднего периода, на которых мы не можем останавливаться в нашем кратком предисловии, но и в рассказах, написанных в первый период.
Сенкевич родился в 1846 году в небогатой шляхетской семье в родовом имении Воля Окшейска, Луковского уезда. Он получил хорошее образование и рано стал задумываться о судьбах своего народа. В стране, утратившей самостоятельность, разорванной на три части и порабощенной тремя соседними державами - Австрией, Германией и Россией, - интеллигенция была настроена в высшей степени патриотически, зачастую даже болезненно патриотически. Патриотом, притом с националистическим оттенком, был и Сенкевич. Боль за свой национально униженный народ, ненависть к захватчикам; мечта о возрождении польской государственности, об освобождении польского языка, польской культуры от германизации и русификации составляли главную часть его политических взглядов. Социальные его взгляды с самого начала не были определенными и ясными; демократизм - не столько демократизм убеждений, сколько чувства - сочетался у Сенкевича с пережитками шляхетских преданий о мнимой народности польского среднего и мелкого дворянства. Однако сословные противоречия не допускали прочного единства среди польских патриотов; восстающих за национальную свободу, уже и в XVIII веке. А в те годы, когда складывались взгляды Сенкевича, разделение общества на классы трудовые и бедные, с одной стороны, эксплуататорские и имущие (капиталистические, но в той или иной степени и форме сохранившие привилегии от феодальных времен) с другой, было еще намного резче, и возможность объединения во имя общих национальных интересов - еще меньше. Выросший за это время класс польской промышленной буржуазии очень скоро стал соперником-союзником польских феодальных сословий и правящих классов держав-поработительниц (Чем дальше на Восток Европы, тем подлее буржуазия - сказано в манифесте Первого съезда РСДРП). К Польше 70-80-х годов применимо то, что писал Маркс о Германии 30-40-х годов: она страдала не только от развития капитализма, но и от недостаточного развития его. Феодальные пережитки отравляли "патриархальным" беззаконием и гнетом все общественное устройство. Они влияли, в форме крестьянско-патриархальной и ремесленно-цеховой феодальной традиции, также и на рабочую массу, замедляя и затрудняя формирование пролетарского класса. Пролетариат с трудом преодолевал свою отсталость. Он был еще недостаточно организован и сознателен, чтобы революционизировать крестьянство, забитое и утратившее веру в возможность успешной борьбы; он не мог еще притягивать к себе заметное число интеллигентов из других классов.
Интеллигенция была растеряна. Легенду о шляхте как руководительнице народной борьбы трудно было поддерживать после 1863 года, когда народ показал свое решительное недоверие ко всему дворянскому сословию. Часть вчерашних шляхетских национальных революционеров перешла к 70-м годам на сторону господствующей реакции, а другая часть пошла к упадку по тому же пути, на который все больше вступало и русское народничество, причудливо сочетая либеральную "прогрессивность", теорию "малых дел" и пережитки былых претензий на революционность. В Польше к этому присоединялись, как мы уже сказали, давно устарелые предания о "золотом веке", когда народ и дворянство были якобы едины.
Именно в это промежуточное время, - когда период дворянской революционности отошел в прошлое, не расцветшая буржуазная революционность уже увядала, а пролетарская революционность только еще всходила на первую ступень своего развития, - среди интеллигентов распространилось, как его называли в Польше, мировоззрение "позитивизма", то есть "положительной деятельности", равнозначное теории "малых дел" ("Наше время - не время великих задач" - говорили сторонники тех же взглядов в России 80-х годов; Щедрин называл и крупнейшие задачи, разрешимые с этой точки зрения например, лудить рукомойники в земской больнице). И в Польше и в России этот отказ от обобщающей идеи называли еще "работой у основ". Молодой Сенкевич, сотрудник газет и журналов, автор фельетонов, очерков, репортажей и рецензий (главным образом на книги для детей и юношества), примкнул к этому течению, которое казалось демократическим, прогрессивным и главное - реальным. (Из будущих крупных писателей к "позитивизму" примкнул также Болеслав Прус). Передовые буржуазные интеллигенты видели в программе "позитивизма" возможность установить связь с народом, оплот против охватившего интеллигенцию неверия.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Рассказы и повести Сенкевича»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Рассказы и повести Сенкевича» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Рассказы и повести Сенкевича» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Владимир Марамзин - Смешнее, чем прежде. Рассказы и повести [Сборник юмористических и сатирических, но в основе бытописательских рассказов.]](/books/39550/vladimir-maramzin-smeshnee-chem-prezhde-rasskazy-i-thumb.webp)
![Вячеслав Шишков - Хреновинка [Шутейные рассказы и повести]](/books/69192/vyacheslav-shishkov-hrenovinka-shutejnye-rasskazy-i-po-thumb.webp)