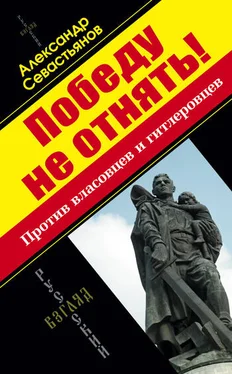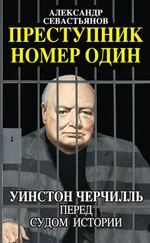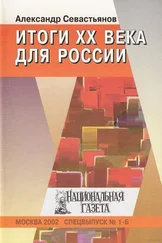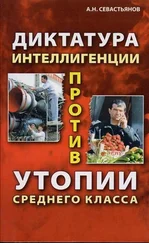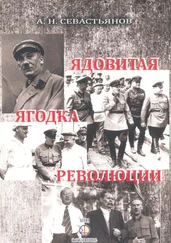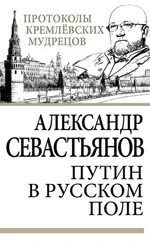Первый приступ сикофантов
Пока Советский Союз был цел и силен, а Германия разделена на две половины, вопрос о трофеях не поднимался. Точно так же, как и сегодня он не поднимается в отношении США или Англии. Понятно, почему ни СССР, ни Россия не считали нужным обращаться к этой теме: ведь в соответствующих решениях, сопровождавших выдачу ГДР Дрезденской галереи, а также еще 1,5 млн единиц культурных ценностей в середине 1950-х гг., говорилось о том, что Советский Союз считает тему раз и навсегда закрытой после этого акта «доброй воли». К сожалению, недалекие наши правители, жестоко ошибившись в прогнозах относительно политических последствий добровольного возвращения «Дрезденки», совершили еще одну ошибку в отношении тех сокровищ, что оставались после этого в России. Вместо того чтобы по примеру США публично легализовать трофейные ценности, официально «разлив» их по музеям и библиотекам и введя тем самым в мировой культурный обиход и научный оборот, «культуртрегеры» советского пошиба заперли трофеи в запасниках, породив этим подозрения, сомнения и домыслы в отношении вполне ясной проблемы.
В дальнейшем поведение России резко отличалось от поведения ФРГ в отношении культурных ценностей, перемещенных в результате Второй мировой войны. У нас априори считали, что выяснить местонахождение отечественных ценностей, вывезенных агрессорами — чрезвычайно сложно, а вернуть их на Родину — и вовсе невозможно, ведь они по большей части находятся в частных руках. Поэтому, за исключением эпизодически пробуждавшегося интереса к поиску Янтарной комнаты, никаких иных волнений в связи с этой темой в советском общественном сознании не возникало. Что же касается вещей из бывших немецких собраний, то насчет них в наших коллекционерских кругах ходили, разумеется, слухи и легенды. Но в открытой печати на подобные сюжеты существовало табу; таким образом, почти никто из советских людей не знал, где, что и сколько у нас хранится.
Совсем иначе отнеслись к делу немцы, десятилетиями не ослаблявшие усилий для того, чтобы выяснить, где в СССР находятся те или иные культурные ценности; в отличие от нас, они знали, что основная часть их бывшего имущества сосредоточена в государственных хранилищах. Намерение рано или поздно его вернуть (как фрагмент общего реваншистского замысла по пересмотру всех итогов ВОВ) никогда не оставляло побежденного агрессора. С этой целью в Бремене на базе университета был создан центр по сбору соответствующей информации. Руководителем центра является проф. В. Айхведе, которому удалось создать в России агентурную сеть, состоящую из людей, умеющих работать с архивными материалами.
Один из наиболее активных немецких сикофантов, некий г-н А. Л. Расторгуев (ныне член берлинского общества «Утраченное искусство в Европе»), в течение многих лет был связан с Айхведе коммерческим интересом, комплектуя для последнего библиотеку по части «россики». Ничем особо не отмеченный в искусствознании (его кандидатская диссертация посвящалась узкой проблеме перспективы в творчестве художников итальянского Возрождения), он, однако, подвизался на кафедре искусствоведения МГУ и был вхож в музейные и коллекционерские круги, где и находил интересующие немцев сведения. Летом 1990 г., будучи заранее оповещен о грядущем объединении Германии, он, вероятно с «подачи» Айхведе, написал «Проект решения вопроса о судьбе памятников искусства, архивных материалов, рукописей, библиотек и т. п., вывезенных из Германии в качестве военных трофеев и находящихся в настоящее время в спецфондах музеев и в государственных хранилищах СССР».
Основная мысль проекта, поражающего односторонним подходом, такова: нам надлежит вернуть немцам все самое лучшее, самое ценное и уникальное, а себе в качестве возмещения утрат оставить тиражный антиквариат, а также то, что невозможно разыскать по спискам и идентифицировать. Проект был опубликован в январе 1991 г. в «Русской мысли», сыграв роль спускового механизма для информационной кампании в СССР, с высокой скоростью развернутой сторонниками возвращения трофеев и немецкими агентами.
Тем временем, позаботившись о том, чтобы соответственно обработать общественное мнение и адаптировать его к запланированному возвращению в Германию трофеев, немецкая сторона предприняла свой главный ход, на который и возлагала все надежды. Используя германофильские и русофобские интенции министра иностранных дел СССР Э. А. Шеварднадзе (этнического немца по матери), она подготовила Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между СССР и Германией, который был подписан Горбачевым 3 октября 1990 г. В Договоре содержится ст. 16, где говорится: «Пропавшие или незаконно вывезенные культурные ценности, находящиеся на их (сторон. — А. С. ) территории, должны возвращаться владельцам или их наследникам». Поражает изощренное, иезуитское коварство немецкой стороны, превосходно осведомленной о том, что в немецких хранилищах сегодня нет четко идентифицированных советских культурных ценностей; таким образом, договор планировался ею в данном пункте как заведомо односторонний, налагающий обязательства только на СССР. (Время показало, что хитрецы просчитались, но об этом ниже.)
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу