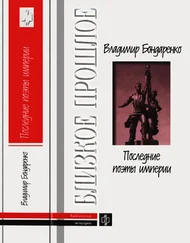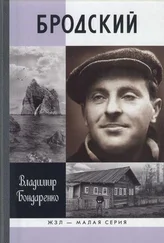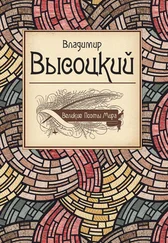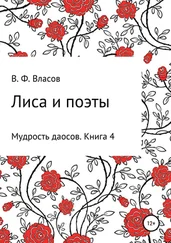Борьба с посвященными от народа поэтами, с пророками мистической сокровенной Руси шла тайно и явно по всему фронту, как с номенклатурно-советской, так и с либерально-диссидентской стороны.
Но даже в этом сознательном замалчивании творцов русских мифов поражает тотальная отверженность поэта Николая Тряпкина. Особенно в последний период его жизни. Его книг не было на прилавках уже более десяти лет. Его обходили с премиями и наградами. До сих пор, спустя годы после смерти, ему не установлен памятник на могиле. Поэт переживал свою семейную драму и не получал помощи ниоткуда. Последние годы жизни он вообще жил почти как бомж. Уйдя почти по-толстовски из своего дома, почувствовав отторжение новой родни, он с все тем же неукрощенным кержацким духом подолгу скитался по чужим домам.
И ни отцов тебе, ни отчего завета,
Ни дедовских могил, ни чести, ни стыда.
Ирония судьбы! В дом русского поэта
С приплясом ворвалась хитровская страда.
(«Горе старого Л upa », 1995)
Все знали об этом и молчали, никто не пожелал помочь найти выход из этого тупика. Да, вроде бы нам, газетам «День литературы» и «Завтра», стыдиться нечего, именно мы помогали все последние годы Николаю Ивановичу финансово, именно Александр Проханов, соединенный с Тряпкиным все теми же невидимыми узами сакральной Руси, безудержным русским космизмом, верою в будущий русский рай, вставал по ночному звонку Николая Ивановича и ехал к нему домой разбираться с нараставшей семейной драмой. Но кто мог дать ему свой спокойный угол?
Ни голицынского Пострелкина,
Ни малеевского слепня.
Даже Белкина-Переделкина
Не оставили для меня.
Все мильонами да трильонами
Стали денежку исчислять.
А с моими-то гуслезвонами
И знакомства не стали знать.
Укатили все дрожки младости.
Поиссяк мой последний грош.
А теперь вот — ни сил, ни радости,
Только сердца глухой скулеж.
А теперь вот, с последней станции,
Я прошусь у иных жучков —
Не в Америку, не во Францию,
А в закутку для старичков.
(«Ни голицынского Пострелкина...», 1995)
Какой из союзов писателей мог бы ему на старости лет обеспечить творческую дачу в Переделкино или во Внуково, или хотя бы оплачивать на льготных условиях комнату в Доме творчества, как это делается для Михаила Рощина, тем самым решив затянувшееся идеологическое противостояние, перерезавшее, как в двадцатые годы, в годы перестройки не только тряпкинскую семью, но и сотни тысяч других семей? С болью вырывается у поэта: «Называешь меня фашистом, / А сам живешь в моем доме... / Взял бы я тебя за пейсики — / Да и палкою по спине...». Много раз приходил он к нам в редакцию газеты, подолгу сиживая в отделе литературы, считая нашу газету своим родным углом, пока еще у него были силы. А силы-то были на исходе. Его родной — и державный, и национальный, и домашний — мир рушился, загоняя уникальнейшего русского поэта в тупик, откуда нет выхода. Этот тупик в 1999 году разрешился глубочайшим инсультом и закончился смертью поэта.
Не жалею, друзья, что пора умирать,
А жалею, друзья, что не в силах карать,
Что в дому у меня столько разных свиней,
А в руках у меня ни дубья, ни камней.
Дорогая Отчизна! Бесценная мать!
Не боюсь умереть. Мне пора умирать.
Только пусть не убьет стариковская ржа,
А дозволь умереть от свинца и ножа.
(«Не жалею, друзья, что пора умирать...», 1993)
Его отчаянные, призывающие к бунту и восстанию стихи последних лет не хотели печатать нигде. Только в «Дне литературы» и «Завтра» отводили мы целые полосы яростным поэтическим откровениям Николая Тряпкина. Только на наших вечерах выпевал он свои гневные проклятья в адрес разрушителей его родины и его дома.
И все наши рыла — оскаленный рот,
И пляшет горилла у наших ворот,
Давайте споем.
Грохочут литавры, гремит барабан,
У Троицкой лавры — жидовский шалман,
Давайте споем.
Огромные гниды жиреют в земле,
И серут хасиды в московском Кремле,
Давайте споем.
И все наши рыла — оскаленный рот,
Читать дальше