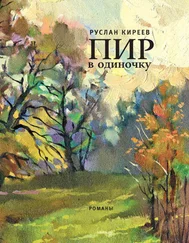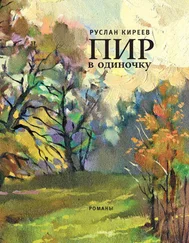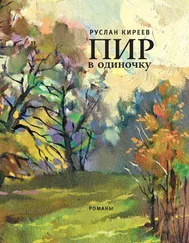Она пережила его на 30 лет, но это по земным меркам, в координатах же романа времени как такового не существует. «Чисел не ставим, с числом бумага недействительна», — объявляет Бегемот ошарашенному Николаю Ивановичу, который в облике борова катал на себе домработницу Маргариты. Да, времени не существует: на бал к Воланду являются те, кто почил не одно столетие назад, и их — тьма тьмущая. «Теперь снизу уже стеною шел народ, как: бы штурмуя площадку, на которой стояла Маргарита». Стена, поток, река, и «конца этой реки не было видно». (Являются мертвецы и спящему Алексею Турбину, но их гораздо меньше.)
Кажется, после уже поминаемой нами «Божественной комедии» такого обилия покойников в мировой литературе больше не было. Вот только в отличие от Маргариты и ее создателя тщетно искать у Данте сострадание к мученикам ада. Наоборот! Попадая в Стигийские болота пятого круга, где нескончаемо казнятся скорые на гнев люди, он вопрошает одного из них: «Ты кто, так гнусно безобразный?» И слышит поистине шекспировский ответ: «Я тот, кто плачет». У кого эти скупые, напоминающие сдавленный стон слова не вызовут хотя бы мимолетной жалости! Но реакция флорентийца иная: «Плачь, сетуй в топи невылазной, проклятый дух, пей вечную волну!» Мыслимо ли представить подобное в устах Булгакова!
Дело, разумеется, не в личной жестокости Данте. Мы содрогаемся от бессердечности поэта, а вот другой поэт, Вергилий, поощряет его поцелуем: «Суровый дух, блаженна несшая тебя в утробе». После рождества Христова, между тем, минуло целых тринадцать веков, и все нехристиане помещаются законопослушным Данте если не в ад, то в его мрачный предбанник. Как далеко еще до булгаковского Га-Ноцри с его непоколебимым убеждением, что «злых людей нет на свете»!
Верит ли в этот постулат сам Булгаков? Или, поставим вопрос шире, верит ли вообще? Это главный вопрос, от ответа на который зависит, собственно, отношение человека к смерти.
Левий как последнюю драгоценность хранит за пазухой свиток пергамента с изречением Иешуа Пилат просит показать его и с трудом разбирает: «Смерти нет...» Прокуратор не опровергает этого, вообще никак не реагирует, но прямо противоположное мнение все-таки звучит на булгаковских страницах: «Загробной жизни не существует». Кому принадлежит оно? Псу Шарику из «Собачьего сердца», будущему Шарикову. Более сокрушительной дискредитации этой точки зрения придумать трудно. А вот слова повествователя из «Жизни господина де Мольера», относящиеся к Людовику XIV: «Он был смертен, как и все, а следовательно — слеп».
Слеп в переносном смысле слова, но смертный и признающий как врач свою смертность Булгаков слепнет, помним мы, в самом что ни на есть прямом смысле, теряет, пусть пока что и спорадически, зрение, и это для него — преддверие конца.
Скорый конец пророчили ему и раньше. «Совсем недавно один близкий мне человек утешил меня предсказанием, что когда я вскоре буду умирать и позову, то никто не придет ко мне, кроме Черного Монаха». Это признание сделано в одном из писем еще в 1932 году, то есть за восемь лет до смерти. Тогда предсказание не сбылось, во всяком случае, относительно скорого конца, но весьма показательно в контексте разговора о вере или неверии Булгакова упоминание чеховского Черного Монаха.
К Чехову Булгаков, называвший своим учителем Салтыкова-Щедрина, относился довольно спокойно, подчас даже чуть-чуть иронически (например, к его переписке с женой). Но вот как раз это произведение, довольно не характерное для Чехова, стоящее особняком во всем его творчестве, засело, по собственным словам Михаила Афанасьевича, у него в голове. Почему? Не потому ли, что герой его, человек абсолютно неверующий, находит себе утешение в том, что общается не с Богом, а с порождением своей собственной болезненной фантазии? Есть даже у двух писателей-врачей чуть ли не текстуальные совпадения. «Босые ноги его не касались земли», — пишет Чехов о Черном Монахе. А у Булгакова в первой же сцене, когда появляется Воланд со своим спутником, читаем: «...Длинный, сквозь которого видно, гражданин, не касаясь земли, качался... влево и вправо».
Над «Мастером и Маргаритой» автор работал практически до смертного своего часа, но работу эту нельзя считать полностью завершенной, о чем свидетельствуют рассыпанные в тексте мелкие противоречия. Кто, например, Берлиоз — секретарь или председатель Массолита? Каким образом у Га-Ноцри вместо белой головной повязки возникает вдруг чалма? Обреченный писатель, конечно, понимал, что подобные неувязки неизбежны — не зря еще в 1934 году в одной из подготовительных тетрадей к роману сделал на первой же странице строгий наказ самому себе: «Дописать прежде, чем умереть!» Увы...
Читать дальше