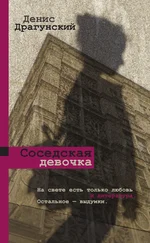4
Далее. Для меня (для моего личного понимания литературы) крайне важна проблема «литературности» (она же «литературщина», она же «вторичность», а также «сведение внутрилитературных счетов»). Это самые расхожие ругательные ярлыки. Среди критиков всех направлений до самого последнего времени существовал странный консенсус – хороший текст должен быть максимально свободен от литературных влияний и отражения внутрилитературных конфликтов. Кажется, что эти критики запоздало боролись с традиционными литературами, которые во многом построены на цитатах, пересказах, аллюзиях и литературной полемике. Конечно, приходится соглашаться, что хороший текст не должен быть явно подражательным (но почему – на этот вопрос у меня нет убедительного ответа) и, уж разумеется, плагиат – это совсем плохо (опять же это относится не столько к литературе, сколько к авторскому праву, то есть в конечном итоге к экономическим аспектам литературной практики. Может быть, оценка подражательности как порока лежит в этой же области?). Но допустим, что подражательность и плагиат являются некими абсолютными (то есть не обсуждаемыми в своем существе) пороками текста. Допустим также, что у нас есть точные критерии выявления этих двух пороков. Впрочем, это очень рискованное допущение – хотя бы потому, что к авторскому праву здесь примешивается литературная иерархия: когда великий писатель заимствует у плохого, у посредственного и даже у просто «менее великого писателя» (как Пушкин у Жуковского взял «чистого гения красоты», а тот – у Томаса Мура) – это почти в порядке вещей. Если же наоборот, это возмутительно. Хорошо, вынесем за скобки и это. Однако вне границ сознательного плагиата и злостной подражательности есть масса более размытых отнесений текста к литературной действительности. Больше того, текст из этих отнесений и состоит. Подробный разбор этой системы уведет нас слишком далеко от темы – однако в дальнейшем нам придется не раз касаться этого вопроса.
Поэтому упрекать текст в «литературности» – это все равно что упрекать его в большом объеме или в краткости, в том, что он написан округлым почерком, набран в две колонки и т. д. Литература – прежде всего внутрилитературный феномен. Это сильное утверждение реализовано в практике постмодернизма, где старая проблема заимствований ликвидирована, но тем самым поставлены новые правовые проблемы, которые, как мы уже поняли, тоже принадлежат искусству.
Чехов насквозь пронизан литературой. Конечно, глупо называть Чехова предтечей постмодернизма (литературного). Хотя бы потому, что постмодернизм доктринален, иногда натужен в следовании своей «доктрине цитирования», а Чехов естествен в своем «барахтании» (как сказал А. Ф. Лосев о Диогене Лаэртском) в литературных и идеологических материях. Но, возможно, именно эта естественность начала снимать запрет с «литературности» литературы. Преодоление литературности после Чехова перестало быть особой (и совершенно зряшной) задачей автора.
А то, что Чехов постоянно советует своим коллегам «просто описывать жизнь», – не так уж важно.
5
Получается такая – ну прямо кантовская – антиномия.
Тезис: «В литературе нет ничего нового, всякий элемент любого современного текста можно найти как минимум в одном из старых текстов» (то же относится к синтаксису, так сказать – «всякий способ соединения элементов можно найти в старых текстах»).
Антитезис: «В литературе всегда все ново, ни одного элемента современного текста (равно как способа соединения их) нельзя найти ни в одном из старых текстов».
Разъяснение: все совпадения – кажущиеся, это либо сознательная натяжка, либо бессознательная проекция.
Как же там «на самом деле» (с учетом всей критики «самого дела», которая проведена в философии ХХ века)? А вот как. Это проблема разрешения соссюровских дихотомий (синхрония – диахрония, язык – речь). А именно: текст, будучи произведен и «отпущен в мир» (одновременно и в гегелевском, и в издательском смысле слова), немедля перестает быть только и исключительно текстом как таковым – каким он остается, пока лежит в голове его автора, пока автор везет заветную рукопись на извозчике или посылает ее по электронной почте в редакцию. Текст в полноте самодовлеющих, в основном внутри текста соотносящихся элементов – текст «в себе и для себя». Но, как только он отпущен, его, этот маленький кусочек синхронии, уносит поток культурной диахронии.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
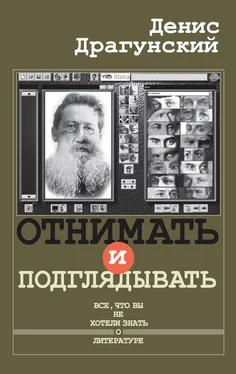



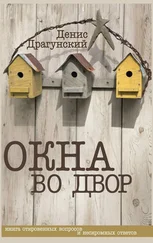
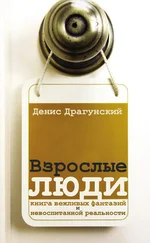
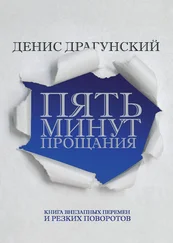
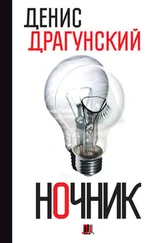
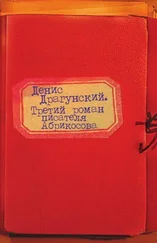
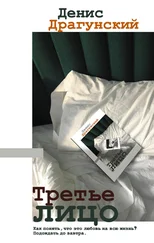
![Денис Драгунский - Дочь любимой женщины [сборник]](/books/404207/denis-dragunskij-doch-lyubimoj-zhenchiny-sbornik-thumb.webp)