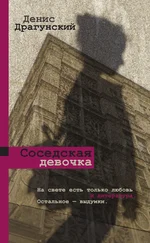Венцель фон Тронка, охотник и кутила, поставил свой шлагбаум на дороге как бы в ответ на интенсификацию свободного передвижения людей, товаров и услуг по всей Германии. Нет, он не хотел стать тормозом на пути складывания общенационального рынка. Он просто хотел взять свою скромную долю в новых экономических условиях. Другое дело, что эта инициатива дорого обошлась и ему, и городам Виттенбергу и Дрездену, и прежде всего честному труженику Михаэлю Кольхаасу, который этот шлагбаум снял.
Еще труднее обстоят дела в глобализованных сообществах. Издержки наслаиваются как снежный ком – пропорционально размножению институтов. Справедливость становится одним из самых дорогих товаров на мировом рынке.
Итак, наблюдается интересная закономерность: чем больше дорог (и чем больше людей и товаров едут по дорогам), тем больше шлагбаумов (и тех, кто их стережет, и тех, кто их пытается отменить или обойти). Дорогу здесь следует понимать и как реальное инженерное сооружение, и как метафорическую инфраструктуру свободы. Ситуация лучше всего иллюстрируется развитием национальных законодательств о миграции и динамикой миграции как таковой. С ростом международных экономических и политических взаимозависимостей законы о миграции постоянно ужесточаются, меж тем как миграция постоянно растет. Таким образом, свобода – это континуум запретов, а запрет, в свою очередь, – это каталог способов его обойти.
Бытие, согласимся, определяет сознание. Но сознание, а тем более политическое бессознательное не хотят с этим примириться. Политическое бессознательное питается древней традицией талиона и реституции. Эта традиция постоянно возобновляется в раннем семейном воспитании, а также поддерживается ультрасовременными леволиберальными мыслителями.
В цитированном выше словарном определении справедливости есть весьма провокационный пассаж: «Требование соответствия между реальной значимостью отдельных индивидов (социальных групп) и их социальным положением». Самое опасное слово здесь – «реальный». Кто сможет справедливо измерить реальную значимость данного человека или данной группы – и кто согласится с результатами измерения, если оно не в его пользу? Кольхаас был богатым плебеем, а Тронка – бедным аристократом, и каждый действовал в соответствии с собственными представлениями о значимости своей персоны и своей социальной группы. Государство в лице имперского суда унизило Тронку и убило Кольхааса, тем самым восстановив некий баланс, который оно преподнесло народу (кстати, оплакивавшему Кольхааса) как единственно справедливое решение.
Ситуация, сделавшая такое решение возможным, уникальна. Что было бы, если бы коней не нашли или Кольхааса бы поймали? В большинстве случаев не находят и не ловят. И война продолжается.
Очень часто чувство справедливости – это желание, чтобы «все было как было», чтобы прежняя, хорошая жизнь, о которой слагаются мифы и легенды (и которая сама часто есть миф и легенда), была восстановлена во всей своей красоте и полноте (или же была бы построена по утопическим чертежам).
Это невозможно. Невозможно восстановить – вернее, построить – индейский (баскский, чеченский, тамильский) рай. Сделать все как было «до прихода оккупантов». Невозможно искупить унижения, которые столетиями терпела чернокожая община США. А что делать с гастарбайтерами в Европе? С молодежью, которую поманили – коммунизмом или веселым обществом потребления, – а потом бросили? С беднейшей частью рабочего класса? С обманутыми вкладчиками российских банков? Список таких утрат, в принципе не компенсируемых, но чрезвычайно актуальных, можно продолжать и продолжать.
Чувство справедливости – возмещения невозмещаемого – невозможно утолить. Оно двигало и движет «сендеристами», «сапатистами» и прочими лесными и горными братьями. Оно же движет более мирными гражданами, в любой стране составляющими протестный электоральный ресурс, который внезапно может консолидироваться вокруг весьма опасных политических проектов. Или вообще резко двинуться в сторону от стандартных моделей политического действия.
Но это слишком изящные слова. На деле речь идет о радикальном переформатировании самой идеи государства. Нельзя жить в плотном окружении террористов, сепаратистов, городских партизан и контролирующих целые регионы криминальных группировок, делая вид, что то ли их вовсе нет, то ли очень мало, то ли они ни на что не влияют.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
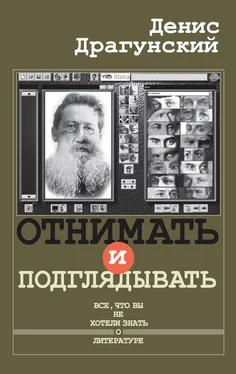



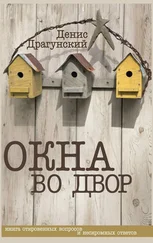
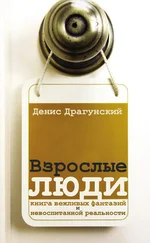
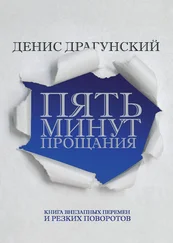
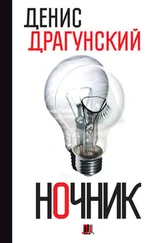
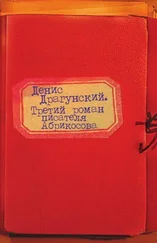
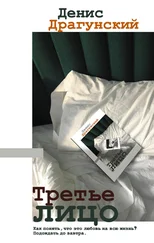
![Денис Драгунский - Дочь любимой женщины [сборник]](/books/404207/denis-dragunskij-doch-lyubimoj-zhenchiny-sbornik-thumb.webp)