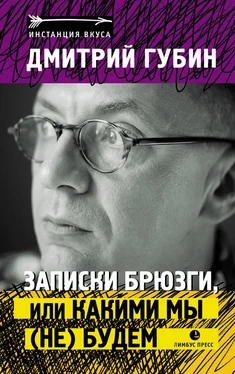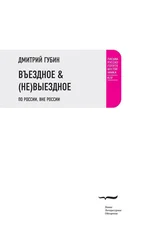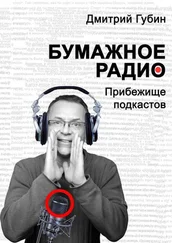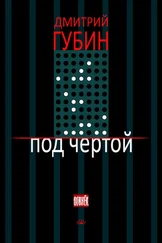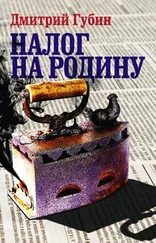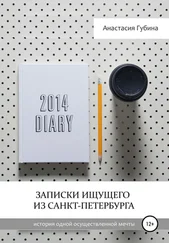Можно сколько угодно говорить о реформах армии или угрозах обороноспособности страны, но любой восемнадцатилетний мальчик знает, что армия от тюрьмы отличается лишь сроком да отсутствием вины. Лучше уж пять лет провести на свободе, с полноценной личной жизнью, с достаточным запасом времени для обдумывания профессии, пусть даже в нелюбимом институте – чем ходить строем, трястись год при виде старослужащих и зарабатывать язву.
В том, что ситуация с армией не меняется я, кстати, виню Министерство обороны в последнюю очередь. Армейский статус-кво поддерживается самим обществом, которое устраивает игра в жмурки: вслух мы говорим, что армия нужна и что денег на оборону жалеть не следует (приписываемую Наполеону фразу, что общество, которое не кормит свою армию, вынуждено кормить чужую, цитирует любой дурак, который потому и дурак, что не знает, что время наполеоновских войн прошло, и не помнит, чем кончил Наполеон) – а на деле отмазывает от армии сыновей всеми средствами. Будь иначе – общество прокатило бы на президентских выборах любого, кто не пообещал бы рекрутский забрив отменить.
И, значит, образование как синоним ухода от армии по-прежнему в нашей стране будет существовать.
* * *
Подвожу черту.
Я мало верю в радикальные перемены в системе образования: она инертна и консервативна.
Но еще меньше я верю в то, что послушное следование ее коридорчикам и чуланчикам, прилежная учеба и дисциплина приведут в жизни к хорошему результату, какую бы форму ни принимал этот результат.
Иногда систему надо дурить.
Иногда – бороться.
Иногда – использовать.
Те образовательные концепции, которые я, как мог, описал, есть способы добиться результата внутри системы, слабо ориентированной на результат.
Систему трудно разрушить, но можно не лгать себе и близким.
Перед поступлением в институт важно знать, какой тип образования он реально дает: то есть, как минимум, иметь информацию, каков процент трудоустройства среди выпускников, сколько из них работают в частном и государственном секторах, какую зарплату получают спустя год, три и пять лет, многие ли работают по специальности, владеют ли иностранными языками и т. п.
Если Минобраз не может обязать ВУЗы эти данные публиковать, то пусть хоть закажет исследование на тему.
А пока его нет – господа родители, дайте почитать эту статью своим детям.
Господа дети, дайте почитать эту статью своим преподам.
А вы, господин министр образования, попробуйте возразить по существу.
2004
На концерте в Малом зале филармонии – в Петербурге на Невском – напал кашель. Кто хоть раз испытал, тот поймет. Тем более – концерт фортепианный. Комкая воздух в трахеях, я в поту дожидался паузы между руколомным Дебюсси и хрестоматийным Шуманом, и вот – ура.
У меня было хорошее настроение. Я выпил шампанского. Я был прилично одет. Мишель Шаплен – лучший исполнитель Дебюсси в мире. Именно в такой последовательности. К тому же, наконец, я прокашлялся.
И тут сосед, который был, несомненно, интеллигентен, бит жизнью, беден и знал про импрессионизм в музыке куда больше меня, с ненавистью прошипел, что надо пить таблетки, и что не надо ходить на концерты, и что пользоваться надо платком, и что постыдился бы я.
Я вскипел, невероятно расстроив жену, которая сто раз говорила, что в таких случаях отвечать нужно скромно: «Спасибо, что вы напомнили мне, что я нахожусь в культурной столице России». И не выглядеть идиотом.
Знаю, да.
В Петербурге глупо разъяснять, что стремление учить, поучать, лечить – есть первейший признак советскости или, по крайней мере, неевропейскости. В Лондоне, где я жил последнее время, кашляющего соседа будут либо терпеть, либо от него отсядут, либо предложат какой-нибудь Strepsils.
В Петербурге бедность, неуспех чаще, чем где бы то ни было, проявляются в агрессивной защите своей территории. Здесь нувориш на «Хованщине» – объект исключительно анекдота. Здесь чаще, чем где-либо, защищают право быть неуспешным. Сирым. Убогим. Начитанным. В очках, вышедших из моды лет двадцать назад. С придыханием говорящим «культура». Собирающим непременную дань ощущения неполноценности со всех, кто на иномарке, но Пушкина не читает. Пушкина не отдадим-с. Наш-с. И руки, если сунут, отобъем-с.
У этой позиции фундамент держится на стольких сваях, что урагану времени не свалить. Интеллигентность и бедность, осанна культуре и бедность, почтение к традициям и бедность – это все явления одного порядка, ибо основаны на простенькой схеме: требовании платить за потребление, а не за производство. Причем на единственном основании, что это потребление не колбасы или водки, а – музыки, истории, литературы или (и что даже важнее) жизненного страдания.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу