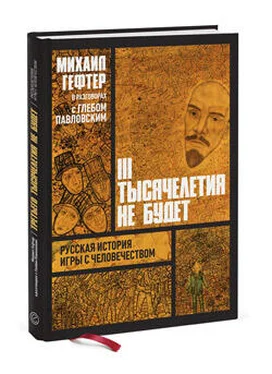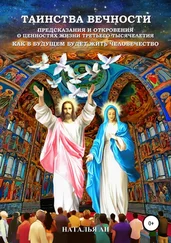Поначалу перестройка мне не понравилась. Мне казалось, что все должно происходить иначе. Моя программа была короткой. Первое — немедленно вернуть всех диссидентов их семьям. Второе — выпускать из СССР желающих и обратно впускать. В-третьих — дать думающим людям печататься независимо. Вот и вся моя тогдашняя программа. Меня не увлекали ни «ускорение», ни «борьба с алкоголизмом». Но мне понравилось, что у Горбачева есть помощник Толя Черняев, которого, если про мужчину так можно сказать, я любил. Он и правда хороший парень.
В 1987 году мы сделали мое интервью в журнале «Век ХХ и мир» под заголовком «Надо ли нас бояться», на котором цензор написал: «Автор считает, вероятно, что надо?» А председатель КГБ Чебриков по поводу этой публикации написал специальное письмо Горбачеву, чтобы тот обратил внимание на вредную статью. (Потом для сборника «Иное не дано» я интервью расширил под названием «Сталин умер вчера».)
Ничего этого я тогда не знал, потому что сам — умирал, у меня был инфаркт. В тот момент пришел мой смертный час, я стал умирать, но благодаря врачу, которого упомянул бы в любой биографии, остался жив. Началась та жизнь, которая идет и по сей день. Жизнь, в которой я пришел к другим идеям и мне все видится в несколько ином свете.
— В ином свете видится и марксизм?
— С Марксом у меня общий предмет — человечество. Я свой предмет в окно не швырял. А кто вышвырнул, думаю, себя обеднил.
Когда мой сектор закрывали, а я отказался писать челобитную в ЦК, чтобы чуть продлить его существование, я уже знал: если хочешь быть независимым человеком, за это надо платить. И в диссидентские времена я знал, что, если я в общем ряду диссидентов, это не означает согласия с каждым. Ныне я утвердился в своем праве и возможности быть аутсайдером. Полагаю, малые группы людей нужны нашему роду, чтобы остаться родом человеческим. И аутсайдеры показаны мысли, чтобы та оставалась мыслящей. Я не избирал себе амплуа, просто иначе я не могу. В данный момент я переживаю сильный внутренний кризис — то ли зажился, то ли еще раз пора все начинать сначала? Я не сторонник клоунад и политических фраз ради фраз, но у меня есть чувство ответственности и за то, к чему я не причастен. Какая-то моя жизнь кончилась в ночь с 4 на 5 октября 1993 года. Стреляли не в меня, а попали в меня, человека и историка. Кое-что теперь я должен выговаривать иначе. А может быть, и иначе думать.
Часть 1. Политика и теология исторического
Мышление вопросами без ответа
Г.П.:Читателю трудно примириться с твоими текстами, где суждения историка всегда так переплетены с суждениями о себе и личными воспоминаниями.
М.Г.:Иногда дóлжно пойти путем, который самому кажется научно незаконным, индивидуалистичным и субъективным. Некий человек я, определенным образом формируясь, вложился до саморастворения в некоторый мир. Мир стал рушиться с легкостью, оскорбительной для саморастворенного в нем существа. Существа, которое принимало все, и ужасное этого Мира, касавшееся самых близких, как цену чего-то, абсолютно необходимого всем. Как частность исторического масштаба.
Этим он поощрял себя к поступкам, которые, вообще говоря, имели бы для него плохие последствия; но саморастворение охраняло. Потом вдруг обвал, катастрофа. И катастрофа эта — легковесных отречений, которые видятся ему мнимыми. Происходящее с собой естественно вписано в тот же масштаб, что прежняя самовключенность, и в объяснениях уже нельзя ограничиться чем-то банальным. Он вынужден идти дальше и дальше — пока не дойдет до пределов Мира, в котором действует Homo historicus и который этот Homo создал.
Мир рушится, и это возвращает мою мысль к Миру, где человек явился впервые. Миру, который создал его и который им создавался.
Разве это личная трудность? Разве это лишь частное крушение при общем крушении обанкроченной жизни, перед тем еще и опозоренной гнусностями системы? Или это глобальное возмущение, в универсальности которого у меня нет сомнений?
Я долго не умел назвать вещи их именами. Путался, искал ответ в пределах речи, которой говорил, — не замечая, что язык мой начал меняться и я уже не смогу писать по-прежнему. Тогда я начинаю импровизированно и все упорней писать иначе. Что по совпадению обстоятельств 50–60-х гг. — «Всемирная история», сектор методологии Института истории АН СССР, и так далее, и тому подобное — привело к тому, что у меня меняется весь взгляд на историю. Поначалу еще не дотягивая до взгляда на существо истории человека, но в нем начинают главенствовать образы исторических отклонений, все эти евразийские кентавры, Атлантиды Платона и декабристов, Россия Маркса и Ленина.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу