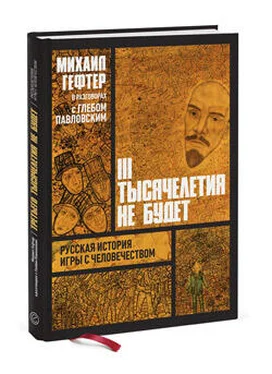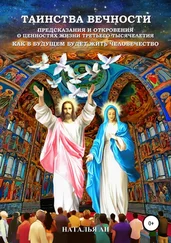Я был в аспирантуре, когда написал письмо Сталину о том, что Вознесенский в своей знаменитой книге «Военная экономика СССР в период Отечественной войны» не прав, когда писал, что II мировая война стала справедливой только в 1941 году. Я считал, что война стала справедливой в силу сопротивления поляков и англичан Гитлеру. Меня выгнали из института, имела значение и пятая графа, но мне опять повезло: я понравился работнику ЦК, которому поручили объяснить мне мои ошибки.
Этот человек вызвал меня и долго объяснял, что я абсолютно не прав, что у англичан буржуазный строй и т.д. Но ему я понравился, хотя он жаловался, как меня трудно переубедить. Он вскоре умер, хороший был человек. По его звонку меня взяли на работу в Институт истории.
Начались плохие вещи, по отношению к которым следовало самоопределиться. Понимание пришло не сразу, и тут Гефтер иногда выглядел нелучшим образом. «Борьба с космополитизмом» была вещью жестокой — можно было пропасть, а можно подняться наверх. С войны мы вернулись военным поколением — поредевшим и с большими утратами, но сильным. Сталину удалось превратить поколение победителей в расколотую на части, атомизированную массу. Впервые нас так грубо, резко и успешно поделили по национальному и иным признакам. Связанным с жизнью, карьерой, покорностью и т.д. Такие вещи не проходят даром. Моя боль выражалась не столько в переоценке строя, сколько в несогласии и сильном, глубоком страдании от того, как мы себя выдали на моральное растерзание. Могут сказать, что это от того, что я еврей, — нет, только отчасти. До моего еврейства дело тогда не дошло. Уже умер Сталин, а я еще каждую ночь просыпался от стука в дверь, хотя Сталина не было.
Не думай, что я обрадовался, когда Сталин умер. Не помню точно, но, вероятно, я плакал и, во всяком случае, сильно переживал. Страданиями я менялся. Вероятно, стал другим и шел к чему-то, чего еще не знал. Это какая по счету жизнь — уже третья? Где-то здесь она обрывается.
Для моих ранений и моей контузии я слишком трудно жил. Один умный доктор сказал мне: «Человек, который так живет после такого ранения, долго не проживет». Его прогноз немножко не оправдался, хотя в 1956 году я заболел настолько, что ощутил себя смертником. Три года почти не мог работать, практически я не жил. На карачках доползал до письменного стола.
Заболел я на почве оскорбления. Оттого что, сам опоздав освободиться, когда с ХХ съездом освобождение пришло сверху, я его не принял. Я по сей день не приемлю свободы, приходящей извне. Постепенно во мне начались некоторые умственные подвижки, и я стал одним из главных действующих лиц в проекте большой советской «Всемирной истории». Тогда началась моя четвертая жизнь.
Теперь ко мне долго благоволили. Я добился от ЦК официальной реабилитации народничества, и так далее, и тому подобное. Работа над «Всемирной историей» была важна. Я вдруг обнаружил, что не могу как марксист увязать воедино истории разных стран и народов. Что-то опять передумывалось, и страдание опять ворвалось в мысль. Каким был итог? Итог был тот, что надо говорить вслух то, что думаешь. Теперь этот не очень молодой человек Михаил Гефтер знал, что может сильно пострадать, но уже не мог иначе. Что-то начало сопротивляться тому, чтобы жить, как живется.
В Институте истории я вел сектор методологии истории. Идея, которой я заслужил пристальное внимание Лубянки и будущее изгойство, сегодня звучит банально: новое прочтение марксизма. За мной обнаружился страшный грех отрицания исторического материализма, «истмата». Я утверждал публично и вел сектор на основе принципа, что теории истории вне исследования истории нет и не может быть. Что «общие законы», для которых история, творимая и влекущая людей, является лишь иллюстрацией, — это отмена исторической науки. И я твердил, что нельзя остаться на почве знания и понимания, не рассмотрев открытыми глазами все, что пережил коммунизм после Октября и во времена Сталина. Сталин неслучаен для коммунизма, утверждал я.
Так я стал инакомыслящим. Но инакомыслящий заведовал сектором методологии Института истории АН СССР! Быть инакомыслящим в фаворе — очень странная роль. Я был членом редакции первого тома «Истории КПСС», и академик Поспелов говорил: «У меня ни разу в жизни голова не болела, но когда я говорю с вами, у меня раскалывается голова!» Инакомыслящий в фаворе, легитимный диссидент — странная, нестойкая помесь. Сказавши «а», надо было идти к «б» — иначе заболеешь и снова рухнешь в больничную койку.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу