ВОЗДВИГ НЕРУКОТВОРНЫЙ… «Воздвиг» – есть строительство руками; «нерукотворный» – вот ускользнувшее во времени словечко! Нерукотворность, то есть нематериальность, духовность, как бы опровергнута самим Пушкиным в следующей строке:
К нему не зарастет народная тропа…
Если памятник – нерукотворный, то и тропа незарастающая, в смысле – духовная, в смысле – путь… Но со стороны народа, поскольку народ – реален, и тропа как бы буквальна, материальна. Этот переход из духовности в материальность и обратно, этот постоянный пушкинский перенос-перелет, поворот значения из духовной в материальную ипостась – не противопоставляет, а соединяет жизнь и дух. Для нас же нематериальная основа всей строфы испарилась, воплощенная в материи бронзы реального памятника. И теперь мы прочитываем Пушкина как бы с конца, одушевляя (максимум!) реальный памятник в той степени, в какой у Пушкина могла ожить статуя Командора. Любопытно, какие могли бы быть памятники Александру Сергеевичу, не пойми мы его «Памятник» как посмертную подсказку, своего рода эскиз к проекту?… Трогательные бюстики на бульварах (Одесса, Тифлис…)? Бульвары – вот что пушкинское! заповедники: аллеи, дубравы, садовые скамейки… сами прогулки! «Нерукотворность» почти не прочитывается теперь в пушкинском эпитете, означая чуть ли не одну лишь превосходную степень исполнения монумента. Пушкина стало можно чеканить на монетах.
«Я», которым открывается все стихотворение, теряется в мощной сени монумента; «Я» не стало. «Он», памятник, стал героем всей первой строфы. Это именно к нему теперь и не зарастет «народная тропа» – буквально, кладем букетик к подножью… (любопытно, как «народная тропа» перекочевала из стихотворения в современное просторечие, означая тропу напрямик, сокращающую путь, по непроложенному и неразрешенному, через огороженный газон, например).
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.
Эти строки – как лавровый венок, но тоже из бронзы – живой поэт к концу строфы забыт окончательно. «Аллюзия» Пушкина с Александровской колонной – более созвучие, чем точность, в его категориях точности: Александрийский столп – другое сооружение.
Строфа II (…«Воспоминание о поэзии»)
Нет, весь я не умру – душа в заветной [48]лире
Мой прах [49]переживет и тленья убежит…
«Я» – вернулось, «Я» – вполне человеческое, поэтически пушкинское, в традиции всей его лирики, особенно ранней, 1820–1822 годов, где весь словарь этих стихов наличествует. Будто через державинскую архаику возвращается он к архаике собственной, лицейской; Державин и Лицей – рядом: архаика для Пушкина 1836 года – его молодость…
Надеждой сладостной младенчески дыша,
Когда бы верил я, что некогда душа,
От тленья убежав, уносит мысли вечны,
И память, и любовь в пучины бесконечны, -
Клянусь! давно бы я оставил этот мир:
Я сокрушил бы жизнь, уродливый кумир,
И улетел в страну свободы, наслаждений,
В страну, где смерти нет…
1823
Увы, моя глава / Безвременно падет: мой недозрелый гений / Для славы не свершил возвышенных творений; / Я скоро весь умру.
1825
И весь финал стихотворения «К Овидию» (1821) созвучен, «параллелен» расположенному в далеком еще будущем «Памятнику»…
Как ты, враждующей покорствуя судьбе,
Не славой – участью я равен был тебе.
Мотив славы, мотив выполнения назначения столь же традиционен во всей поэзии Пушкина. Вернулось «Я» – человеческое, вернулось и «Я» – поэтическое…
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.
«Народ» в этой строфе отошел вдаль; заслуги, слава и бессмертие – чисто поэтические, перед искусством, для чего и требуется хотя бы «один пиит»: чтобы оценить. Ужасное, однако, апокалипсическое будущее предусмотрено в этом заявлении! (И прошлое… «Со мной доброго Дельвига нет», и Кюхля в Сибири…)
Строфа III («Империя…»)
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык [50]…
Возвращение к I строфе, прыжок через II строфу… Скачок головокружительный: от одного «пиита» – ко «всей Руси великой», – однако нами эта ступенька не воспринимается, мы об нее не запинаемся, то ли от затверженности стихотворения, то ли «пиит», ставший со временем словом не возвышенным, а пренебрежительным, нам не так важен, как «вся Русь»… Опять зазвучали «мне», «меня» – в каком-то непушкинском произнесении. «Я», в первой строфе окаменевшее в памятнике, вдруг ожило из камня, окончательно утратив прообраз «кумира» – самого Пушкина, и объявилось это новое «Я» в очень пестром и неожиданном окружении. И поэт здесь до некоторой степени выступает перед аудиторией (памятник – маска – актер… [51]), а не перед «последним пиитом». «Слух… пройдет…» Славянское «слух» – молва, весть. Только что, строфой выше, это было славой. «Слух» связан по народности и архаизму с последующим крутым, императивом. «И назовет меня всяк сущий в ней язык…» Для нашего же уха что-то есть в глаголе «пройдет» – от преходящести. Пушкин и знал, и понимал «народы»; интерес к ним проявлен до последнего его дня (заметки о Камчатке); все перечисленные в «Памятнике» народы – встречены им в жизни, знакомы. Подобные перечисления встречались и раньше (сам Пушкин мог и не вспомнить своих давних текстов в момент написания «Памятника»…):
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу





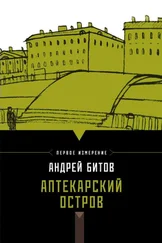



![Андрей Битов - Жизнь в ветреную погоду [Сборник]](/books/434496/andrej-bitov-zhizn-v-vetrenuyu-pogodu-sbornik-thumb.webp)