Никто, как Пушкин, исходя из того же им и не им прослеженного единства Музы и Судьбы, не переживал с тою же силой сознания выполненности своего дела в этой его жизни, потому что никто и не видел еще целиком того здания, которое он строил с не нам доступной последовательностью. Много раз описаны с самыми разнообразными акцентами смонтированные обстоятельства его последних лет: и двор, и долги, и Дантес, и невозможность заняться своим делом. Они осмыслялись в той или иной степени каждым исследовавшим или для себя вчитывавшимся в наследие и судьбу поэта. И с обстоятельствами этими невозможно не согласиться: они невыносимы. Но невыносимы они прежде всего потому, что, почти достроив свое «здание» (обозначим так систему творчества, ограниченную высшим назначением), Пушкин получил нежелательную возможность полностью «предаться» этим обстоятельствам, никогда до сих пор не бывшим ВСЕЙ его жизнью. Конечно, Пушкину всегда оставалось «что делать». Но Пушкин-издатель, Пушкин-историк, даже гениальные Пушкины – критик и прозаик никак не уравновесят нам Пушкина-поэта, в котором прежде всего и выявлялось великое его назначение и поприще. Замечательная поздняя лирика Пушкина, не известная при его жизни, была уже в значительной степени «запредельна», за пределами того, что так точно обозначилось в нем как единство и целое. Она уже не вычеркивалась, но и не публиковалась. Вот три его последних надежды на осень: «Видно, нынешнюю осень мне долго в Болдине не прожить <���…> Погожу еще немножко, не распишусь ли; коли нет – так с Богом и в путь» (1834). «…такой бесплодной осени отроду мне не выдавалось. Пишу, через пень колоду валю. Для вдохновения нужно сердечное спокойствие, а я совсем не спокоен» (1835). «Я рассчитывал побывать в Михайловском – и не мог. Это расстроит мои дела по меньшей мере еще на год. В деревне я бы много работал; здесь я ничего не делаю, а только исхожу желчью» (1836).
Надо полагать, что обстоятельства Пушкина-поэта, завершающего свой непрерывный 20-летний путь, и были его основной трагедией. И как всё то же великое единство творчества и судьбы проступают тогда и «обстоятельства» трагедии Пушкина-человека. По непосредственной приложимости к судьбе они вроде и первые, но по причинности – вторые, хотя, по сути, те и те – неотделимы.
Тут следует сказать об общем характере всех воспоминаний и свидетельств о Пушкине – они последовательно противоречивы, они постоянно взаимоисключают друг друга. Подлинный Пушкин ни разу не умещается ни у кого в характеристику (хотя бы в той мере, в какой «уместился» у самого Пушкина на полутора страницах Грибоедов). Пушкин всегда остается между этими свидетельствами как проекция их взаимодействия, поблескивает в тени этого взаимогашения, напоминая нам забытые сведения из оптики и акустики. Неспособность современников «зафиксировать» такое живое явление, как Пушкин, видна не только в психологическом рисунке, но проявляется буквально, физически: «Ни у кого в жизни не встречала я таких прекрасных глаз!», «Как он напомнил мне обезьяну!» Пресловутый рост поэта достигает у Чернецова, писавшего его на известном параде на Царицыном лугу (всё-таки профессиональная точка зрения), точной цифры, переводимой в наши 167 см (рост отнюдь не маленький по тем временам, «средневысокий», как определял его позднее Достоевский). Смех Пушкина звучит в ушах современников и как самый заразительный: «кишки видны» (К. Брюллов), и как искусственный, натужный, вызывающе неприятный. И «легок»-то он оказался всего раз в жизни, когда умер, когда его переносили с дивана на стол: «как был он легок!» (А.О. Россет). А если перейти к психологическим характеристикам, о которых мы помянули, о характеристиках ума, таланта, трудолюбия и значения этого труда, – то мы утонем в томах противомнений и, произвольно (и даже по праву), согласимся лишь с теми, которые нас самих устроят, которые мы УВИДИМ, как, например: «Никого не знала я умнее Пушкина. Ни Жуковский, ни князь Вяземский спорить с ним не могли – бывало, забьет их совершенно. Вяземский, которому очень не хотелось, чтоб Пушкин был его умнее, надуется и уж молчит…» Как приятно наконец прочесть такое! Как виден Вяземский… Вот и за Вяземским все признавали ум, потому что он не только был и впрямь умен, но и соглашался с ролью «умного человека», а это признается. Анекдоты и мифы о Пушкине и впрямь лучше выражают нам его, возможно, потому, что он отчасти их сам творил.
«Какой он был живой!» Пушкину неинтересно и некогда исполнять роль или нести «образ». Можно полагать, что пушкинское «поведение», так разноречиво воспринимающееся, есть в значительной степени реактивное сопротивление искажению собственного образа в чужом восприятии. Бесполезно пытаться быть понятым, если к вам подходят с меркой. Живому мерка никогда не подойдет. Пушкин совпадал с людьми лишь в восторге живой жизни – в любви, в дружбе; общей могла быть лишь эмоция, и никогда – оценка. Пушкинская оценка спонтанна, не готова, всегда сейчас, потому – точна. Практически она не может совпасть ни с какой выработанной, готовой, даже «умной» точкой зрения. Он всегда видит то, что есть, а не что хотелось бы. Восприятие его всегда живо вместе с жизнью. Превосходство в уме и в жизни (не только в живости) лишает возможности контакта, и лишь влюбленность способна создать иллюзию общения. Быть всегда заведомо не так понятым – человеку, столь жаждущему реального общения («мне одинаково интересно что с дворником, что с царем…»), куда болезненнее, чем отвергать самую возможность контакта. И Пушкин в жизни, в «поведении» как бы творит пародию – не на себя, а на восприятие себя и вообще – на человеческое восприятие. Анекдоты о Пушкине прежде Хармса принадлежат самому Пушкину. Он пародирует любой остановившийся взгляд, всякую готовую «мерку», каждую фиксированную точку зрения – стремительная, боксерская реакция эпиграммщика. Стряхнуть готовое восприятие на уровень реального восприятия – конечная цель шокирования. К сожалению, удается это лишь отчасти: закостеневшее восприятие всегда выдвинет гипотезу «анфантеррибля», чудака, противоречивой личности, прежде чем согласится признать в пародии собственное отражение. Мы ничего не поделаем здесь с тем, что иначе не обозначишь, как пошлость. Асолютная неспособность к пошлости у Пушкина непростительным образом оттеняла любое ее проявление в другом (и Жуковский, и Вяземский, и Плетнев – все друзья почти – так или иначе бывали повинны в ней по отношению к поэту; эта возможность сохранилась и когда его не стало, вплоть до сегодняшнего дня…); «задетость» Пушкиным – это задетость собой, собственной мертвостью или пошлостью, – она в этом качестве не узнается или не прощается. Насколько снисходительнее – а вернее, щедрее – бывал сам Пушкин в отношении к людям, а тем более к тем, кого любил! Его шаг навстречу неизмеримо шире того шажка, который делали или даже не делали ему навстречу (о поклонничестве не говорим: это способ любить себя…).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
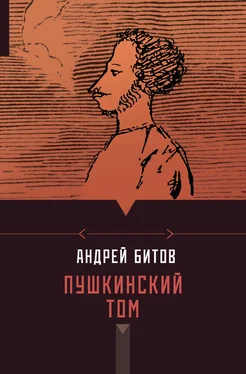


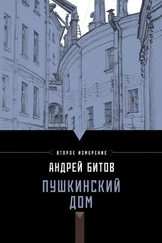

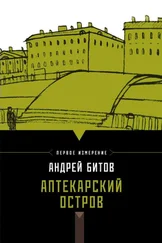



![Андрей Битов - Жизнь в ветреную погоду [Сборник]](/books/434496/andrej-bitov-zhizn-v-vetrenuyu-pogodu-sbornik-thumb.webp)