И только с Пушкиным, единственным автором, все известные тексты которого были мною читаны и перечитаны, так и не складывалось у меня подобной завершенности. Хотя, если говорить не только о естественности и свойственности единства всего творчества, но и о «заботливости» поэта о ней, именно Пушкин служил этому единству с наибольшей последовательностью и даже, как теперь бы сказали, «сознательностью». Единство пушкинского творчества – отдельная и неисчерпаемая тема; здесь можно лишь упомянуть о том, что таковое не только имело место, но и поддерживалось постоянным напряжением пушкинского духа: сличение чернового материала с беловым текстом дает отчетливый образ этого усилия, отнюдь не связанный с большей или меньшей удачностью строки или строфы. Читая волшебные строфы, навсегда вычеркнутые из окончательного текста, приходишь в такое недоумение, что справиться с ним удается, лишь признав, хотя так и не разгадав, наличие сверхзадачи. Щедрость, с какою мог вычеркнуть Пушкин, ни с чем не сравнима. Сравнима она лишь со скупостью. Или – строгостью («заботливость» здесь будет мягко сказано). В отношении к единству, некоему лишь им одним до конца постигнутому целому, Пушкин так же аскетичен, как щедр в строке. Золото его наивысшей пробы, но ему ведется счет (и в жизни, подавая нищему не менее 25 рублей, он утверждал про себя, что скуп). И впрямь Пушкин скуп на дисгармонию в поэзии, как и на формальные проявления в жизни (он так же щедро тратил время на жизнь, как дар свой – на поэзию, и так же яростно скучал от нежизни, как строго изгонял дисгармонию). «Вычеркнутый» Пушкин тоже складывается в некое единство, но – изгнанное им. И, пожалуй, в «вычеркнутом» – содержится больше проекций и связей с позднейшей поэтикой: то, чем восхищались потом в других поэтах как новостью и «развитием», Пушкин-то и вычеркивал. В каком-то смысле он НАС вычеркивал. И вот, убедившись в том, что гармония – это отнюдь не только свойство, но и работа, но и жертва, с неисчезающим недоумением перечитывал я последние оставшиеся от него строки, пусть формально, но стоящие в конце ВСЕГО ЕГО ТЕКСТА: «Вот как надобно писать!»
Если перекоситься и принять эти слова как напутствие, то всем нам, оставшимся после него в живых, следует писать, как детская писательница А.О. Ишимова. Полагаю, что она была культурная женщина и светлая личность. Но этого мне как бы мало.
По свидетельству В.А. Жуковского, это письмо Ишимовой написано «за час перед тем, как ему ехать стреляться». В письме Жуковского отцу поэта о подробностях дуэли и смерти факту этому придается однозначно благородное толкование: «Это письмо есть памятник удивительной силы духа (что бесспорно так! – А. Б .); нельзя читать его без умиления, какой-то благоговейной грусти: ясный, простосердечный слог его глубоко трогает, когда вспоминаешь при чтении, что писавший это письмо с такою беззаботностию через час уже лежал умирающий от раны».
«Умиление», «благоговейная грусть», «такая беззаботность»… Это уже не совпадало с моими чувствами. Тут естественно просматривалась дань уникальному жанру такого письма, предназначенного для прочтения и отцом, и не только отцом поэта. Сейчас, перечитывая цитату, я ловлю ее автора с поличным на преувеличении: умирающий Пушкин на снегу – это не через час, а через пять после письма Ишимовой; часы эти: час дня – выход из квартиры; четыре – выезд к месту дуэли, полпятого – прибытие на место… Преувеличение это эмоционально и естественно, опровергать в нем нечего. Однако значение письма Ишимовой для самого Пушкина так и остается за семью печатями. Куда как убедительней Пушкин, сидящий на сугробе и смотрящий в сторону в ожидании, пока секунданты и Дантес вытаптывают в снегу площадку для дуэли, – сцена, описанная тем же Жуковским с безукоризненной скупостью слова, подробность, о которой действительно невозможно читать без слез. Жутью веет на современного нам читателя, запомнившего партию усевшегося на сугроб тенора отчетливее, чем «Евгения Онегина» или подробности пушкинской дуэли.
Возможно, письмо Ишимовой и не бередило бы меня до такой степени, кабы не одна вполне сложившаяся, вполне интеллектуальная и даже обоснованная точка зрения на трагический конец нашего поэта, а именно: что Пушкин полностью выполнил свое назначение, за границами которого жизни ему уже не оставалось, и тем или иным способом конец ему был сужден, что с объективной точки зрения он естественен: не так, так еще как-нибудь. И впрямь Пушкин единственный, про кого можно сказать, что он выполнил свое назначение полностью, что здание его возведено под крышу (со шпилем «Памятника», если крыше уподобить «Медного всадника»). И это совпадало с моей выношенной убежденностью в совершенном единстве всего творчества и судьбы, как ни в ком, воплотившемся в Пушкине. Хотя всё протестовало во мне чисто по-человечески против этого снисходительного разрешения ему умереть. Будто его еще и еще раз отсылали на ту же дуэль… Пластинка эта заскочила так давно! Не совпадает ли, пусть и в ослабленной проекции, такое наше согласие с его смертью с тем согласием, проявленным тем обществом, которое нами так осуждено? Не так же ли и мы кровожадно плачем над более свежими могилами, не смиряясь с невосполнимой утратой, а соглашаясь с нею?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу





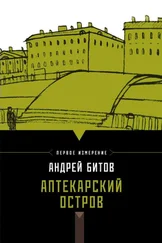



![Андрей Битов - Жизнь в ветреную погоду [Сборник]](/books/434496/andrej-bitov-zhizn-v-vetrenuyu-pogodu-sbornik-thumb.webp)