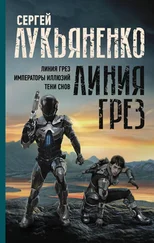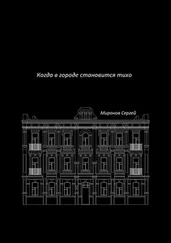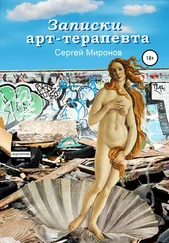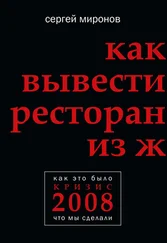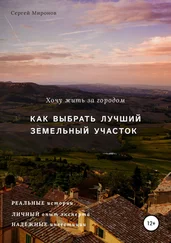В самых различных странах сегодня принимаются разнообразные антикризисные меры. Большинство их выдержано отнюдь не в либеральной, а в социал-демократической логике. Президиум Социнтерна принял заявление о глобальном финансовом кризисе, где происходящее характеризуется, как «крах неолиберальной политики», и ставится вопрос о необходимости «прогрессивного политического плана, в котором люди должны выступать на первом месте». Вот главное отличие: у либералов на первом плане деньги, у социал-демократов – человек. Первый путь привел к кризису второй спасет от него.
Мы должны понять, что живем в стремительно меняющейся стране. Кое-кто, похоже, стал подзабывать, что еще недавно весьма реальной была угроза распада России. А теперь и уверенное развитие экономики, и бум инвестиций, и крупные финансовые резервы, и возрастание международного веса страны уже воспринимаются как нечто само собой разумеющееся.
Но мы подошли к определенной черте, к началу качественно нового этапа. И отнюдь не случайно сегодня так много говорится о человеческом потенциале, о необходимости «инновационного поведения граждан», развитии самоорганизации общества. То, что сделано в последние годы, большей частью достигалось за счет мощных волевых импульсов сверху. За счет них восстановлена управляемость, обретена стабильность. Но далее мы входим в такие слои реформ, где любым властным усилиям требуется мощная подпитка снизу Без активной позиции общества ни инновационного развития, ни «экономики знаний» не получится. Творить, выдумывать, изобретать никого насильно не заставишь. Невозможно принудить к организации нового бизнеса, приказать сделать научное открытие или обязать больше рожать детей. А именно на этих «фронтах» и будет в ближайшие годы решаться судьба России.
Какую проблему ни возьми, – все, так или иначе, замыкается на обществе и общественных структурах. К примеру: мы хотим поднимать производительность труда. Но реально ли это при нынешнем уровне зарплат, когда даже работающие попадают за черту бедности? Чтобы люди в разы эффективнее работали, надо в разы больше платить за труд. Именно за это бьются независимые профсоюзы, но ни власть, ни бизнес к их голосу прислушиваться не привыкли. А придется. И слушать, и поддерживать, и отлаживать взаимодействие в треугольнике: власть-бизнес-профсоюзы.
То же самое и в других сферах. Хотим, чтобы бизнес не изнывал от административного гнета?
Надо давать «зеленую улицу» саморегулируемым организациям, которые бы забрали у чиновников многие контрольные функции. Хотим иметь современные силовые структуры и судебные органы? Надо создать возможности для контроля за их деятельностью со стороны гражданского общества. Хотим порядка в сфере потребления и торговле? Надо повышать влияние обществ защиты прав потребителей. Законопроект о создании общественных советов на телевидении из того же ряда. Для того, чтобы с телеэкранов не лился поток безнравственности, чтобы ТВ становилось более качественным, необходим механизм общественного влияния на него.
Но я согласен с А. И. Солженицыным: в ряду других общественных институтов есть особый. Который не просто важен как таковой, но способен определять облик будущей России. Это местное самоуправление. Почему у нас так затянулся процесс его становления? Потому что существовал упрощенный подход: мы, мол, прописали права местного самоуправления в Конституции, а дальше оно само пробьет дорогу. Долгое время не решались ключевые проблемы с объемом полномочий, разграничением собственности, созданием финансовой базы. Только с начала 2006 года, с вступлением в силу нового Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» началась огромная, кропотливая работа по развязыванию этих узлов. О гигантских масштабах ее говорит такая цифра: в развитие федерального законодательства в субъектах федерации пришлось принимать более 5 тысяч(!) своих региональных законодательных актов.
В разных регионах дела идут совершенно по-разному. Есть лидеры. Например, Ставрополье, Новосибирская область живут по новому закону. Но есть и те, кто серьезно отстает. Учитывая сложности, мы дали возможность субъектам федерации работать с местным самоуправлением «в режиме ручной настройки», определяя объем его полномочий по своему усмотрению. Но кое-кто воспринял послабление, как знак того, что реформа может быть вообще свернута, и все вернется на круги своя.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
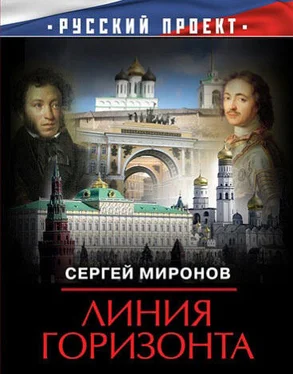

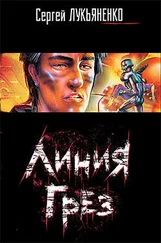
![Александр Латыпов - Линия Горизонта [litres]](/books/401934/aleksandr-latypov-liniya-gorizonta-litres-thumb.webp)