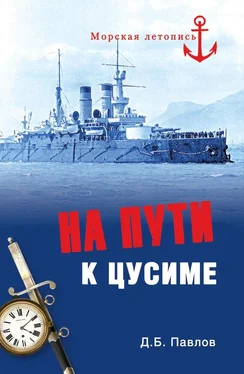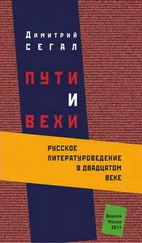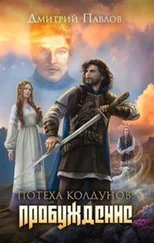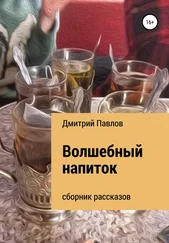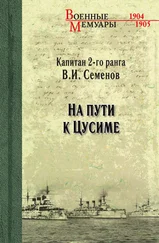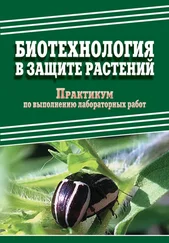Одновременно некоторые современники или даже участники этих событий (С. Ю. Витте, Р. Р. Розен, А. П. Извольский, В. А. Штенгер, М. А. Таубе со слов П. И. Рачковского) в мемуарах, написанных много лет спустя, кивали на «нервно–приподнятое настроение» Рожественского и его офицеров, созданное донесениями Гартинга, Мануйлова, либо капитана Степанова (командира «Камчатки»), забывая при этом отметить, что в таком случае какая‑то доля ответственности падает и на них самих. Очевидно, что многие из этих оценок — не более чем дань позднейшей конъюнктуре [258]. «Фальшивые донесения агентов–бездельников были причиною нелепого скандала, разыгравшегося ночью в Немецком море на Догер–банке, когда наши суда открыли огонь по мирным рыбакам, приняв их за японцев» [259]- такова, очевидно, была одна из флотских точек зрения на произошедшее с армадой Рожественского.
Российские революционеры вслед за британской печатью злорадствовали по поводу «победы» русских моряков над английскими рыбаками. То, что в действительности произошло в Северном море, им было глубоко безразлично, зато инцидент давал хороший повод для очередной и, конечно, «разоблачительной» кампании в печати. «Великая армада, такая же громадная, такая же громоздкая, нелепая, бессильная, чудовищная, как вся Российская империя, — писал В. И. Ленин в статье «Разгром», – двинулась в путь, расходуя бешеные деньги на уголь, на содержание, вызывая общие насмешки Европы, особенно после блестящей победы над рыбацкими лодками» [260]. В подобном ключе «гулльский инцидент» стал рассматриваться в последующих работах советских, а затем и российских историков (включая энциклопедические издания), и лишь очень немногие из них, усомнившись в справедливости ленинских слов, позволили себе попытку разобраться в этом запутанном вопросе по существу. Увы, авторы этих исследований никогда не изучали инцидент в полном объеме и с привлечением всех имеющихся свидетельств.
В своей частной, как и в секретной служебной переписке Ламздорф, министр финансов Коковцов, Рожественский, а за ними и некоторые историки в событиях на Доггер–банке пытались разглядеть козни англичан [261]. «Недавнее происшествие в Северном море показало, до каких пределов может дойти Великобритания в своем стремлении осложнить без того трудную задачу России», — конфиденциально писал Ламздорф осенью 1904 г. своим коллегам в военном и морском ведомствах и в министерстве финансов [262]. Ныне «британское направление» расследования признано в отечественной историографии неперспективным [263]. Нам представляется, что продолжать изучение этого «следа» нужно, но говорить о нем, как о чем‑то едином, не следовало бы. Целесообразнее рассматривать его в трех разновеликих ипостасях. Первая из них — общеполитическая. Мы уже знаем о тех усилиях, которые предпринимали британские политики, государственные деятели и печать, чтобы вернуть русскую эскадру домой, задержать ее продвижение на Дальний Восток или, на худой конец, осложнить ее поход, как в чисто техническом смысле (затруднить снабжение ее углем, например [264]), так и, главным образом, путем натравливания мирового общественного мнения и создания вокруг нее крайне неблагоприятной политической атмосферы. Эти усилия, до известных пределов успешные, находились всецело в русле интересов Японии; они очевидны и, на наш взгляд, никаких дополнительных доказательств не требуют.
Вторая разновидность английского «следа» покоится на убеждении экипажей судов 2–й эскадры, что во время самого инцидента английские рыбацкие баркасы либо выполняли роль «щита» для японских миноносцев, либо своими маневрами маскировали действия последних — другими словами, находились с ними в сговоре. Эти предположения представляются нам неубедительными: в противном случае придется признать невероятное — что маршрут движения Рожественского, время прохождения его эскадрой Доггер–банки и само ее построение (напомним, что эскадра двигалась шестью отрядами, но атаке подверглись именно новые броненосцы) были им известны заранее.
Третьим и последним проявлением британского «следа», как нам представляется, следует считать комплекс вопросов, связанных с гипотетическим приобретением японцами английских (или других западноевропейских) военных судов, наймом ими британских моряков, таинственными перемещениями морских офицеров Японии по территории и в территориальных водах самой Великобритании и ее колоний; наконец, с деятельностью их представителей в Гулле как до, так и после инцидента. Понятно, что все перечисленное могло состояться не иначе как с ведома и при тайном попустительстве британцев — если не властей, то частных судо- и верфевладельцев. Именно эта, последняя, часть английского «следа» и нуждается, на наш взгляд, в дополнительном изучении. Информацию о нем можно найти в тогдашней печати, включая английскую и американскую, но указания прессы, понятно, требуют тщательной перепроверки с привлечением архивных материалов Великобритании и США. Безусловно, центральным из этого ряда является вопрос: откуда осенью 1904 г. в западноевропейских водах могли появиться миноносцы или другие суда, полностью или частично укомплектованные японскими экипажами? [265]
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу