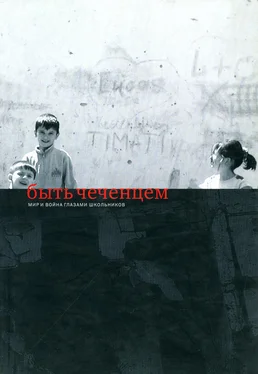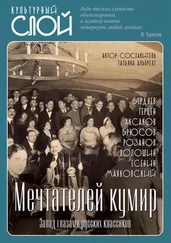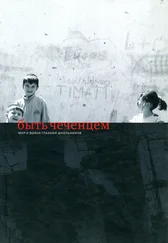Российское общественное мнение, как и общественное мнение собственно Чечни, колеблется в ответах на вопрос, считать ли Чечню частью России или нет. Хочется обратить внимание на то, что сочинения показывают очень глубокое проникновение в чеченское общество как советских, так и постсоветских структур — будь то социальных, будь то ментальных. Как в топонимии Чечни изобилуют универсально-советские названия типа «Комсомольское» или «Химзавод», так и в мышлении чеченцев 30-х годов и чеченцев 90-х, отраженном в сочинениях, были активны советские представления и ценности. Сочинения показывают это столь же ярко, сколь и драматично. Драматичность связана в этом случае с тем, что принадлежность в одном случае советскому, в другом постсоветскому социуму, лояльность их символам, приверженность их номинальным и реальным ценностям вовсе не уберегали от репрессий со стороны держателя, источника этих символов и ценностей, каковыми для них были всегда центральные власти. Сочинения недаром возвращают нашей памяти такой исторический факт: депортации чеченцев и ингушей предшествовало ее формальное одобрение высшим партийным руководством Чечено-Ингушетии.
Депортация — национальная травма чеченского народа, как других народов, подвергавшихся такой репрессии. Это очевидно д ля прочитавшего хотя бы приведенные выше сочинения. Несомненно, как исторический факт она служит источником и антисоветских и антирусских чувств. Но сочинения показывают и другие следствия этого события. Если авторы плана депортации хотели превратить изгоняемые народы в изгоев, то добились они иного. Произошла (оплаченная безмерным количеством крови и слез) более тесная интеграция этих этносов, в результате которой и возникла та интернациональная смесь, которая называлась «советским обществом». После репатриации, как показывают сочинения, на территории республики восстанавливались в первую очередь советские политические, социальные идеологические и ментальные структуры. Прочность последних здесь оказалась, пожалуй, выше, чем в центре. Об этом свидетельствует язык и стилистика сочинений. С учетом того, что их отбор совершался явно не на этом основании, можно считать их надежным свидетельством того, в каких ценностных координатах строится нынешнее массовое сознание и взрослого населения Чечни [137].
Можно в этом горьком, но пережитом историческом опыте видеть также залог той высокой адаптивности, которую демонстрируют представители чеченского народа в диаспоре. Опросы общественного мнения стабильно показывают высокий уровень негативизма российского населения в отношении чеченцев, вообще «кавказцев». (Ограничить проживание «выходцев с Кавказа» на территории России хотели бы 46 % опрошенных, против ограничения на проживание каких-либо наций — 21 %.) Специальный анализ этой формы ксенофобии показывает, что, помимо многих компонент, связанных с чувствами страха, мести и др., немаловажную роль здесь играют реакции «местного населения» именно на пугающие их высокие способности представителей этого этноса адаптироваться и выживать в инокультурной среде, в частности браться за предпринимательство. Ну а групповые дискуссии и индивидуальные интервью показывают и другую сторону этих чувств: реакции уважения к целеустремленности и стойкости чеченцев, их сплоченности и верности своим обычаям и правилам, умению переносить трудности и приспосабливаться к новым и далеко не всегда благоприятным обстоятельствам. Гордость этими чертами своего народа видна и во многих сочинениях.
ТЕОРИЯ КОНСЕРВАЦИИ
Автор одного из сочинений обращает внимание на мысль о том, что акции генерала Ермолова сорвали происходивший в чеченском обществе переход от первобытного общества к феодальному [138]. Девушка из Пензы с русским именем и фамилией предпринимает исполненную благородства попытку найти корни проблемы за пределами ходячих мнений. Она пишет: «Как много раз за последующие века чеченцев будут упрекать за то, что они живут войной и воровством, грабежами, а корни этого — вот они!»
Идея, что в конфликте на Кавказе столкнулись «современное общество» и «архаическое» (родовое, феодальное), высказывалась в России не раз. Поверхностное знание о верности чеченцев обычаю кровной мести, о наличии тейпов, об уважении к женщинам и некоторые другие детали служат поводом для такого заключения. Ретро-ориентированное российское массовое сознание не то чтобы уважает эти архаизмы, но, скорее, завидует им. Предмет особой зависти — сплоченность чеченцев, готовность помогать друг другу. Русские очень ценят такую солидарность, поскольку утратили ее — по масштабам исторического времени — совсем недавно. Сейчас очень часты — они встречаются и в текстах — ламентации о том, что русские друг другу не помогают. Архаические же отношения чеченцев оказываются их преимуществом в противостоянии.
Читать дальше