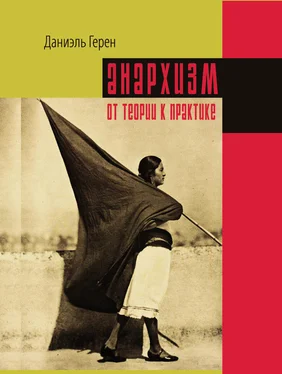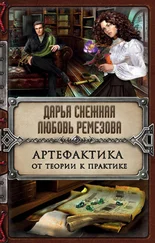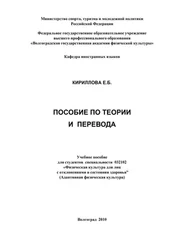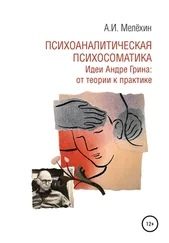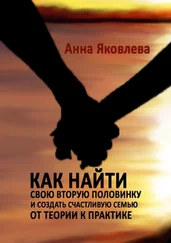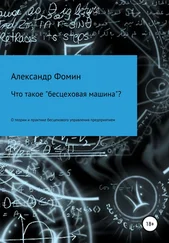В Югославии самоуправление — фактор, способствующий демократизации режима. Это создало более здоровые предпосылки для поддержки в кругах рабочего класса. Партия начинает действовать как вдохновитель, а не управляющий. Ее кадры должны становиться более адекватными представителями масс, более чувствительными к их проблемам и стремлениям. Как отмечает Альберт Мейстер, молодой французский социолог, который поставил себе задачу изучения этого явления на месте, самоуправление несет в себе «демократический вирус», который, в конечном счете, проникает также и в партию. Самоуправление для партии как «тонизирующее средство», которое объединяет низшие партийные эшелоны с рабочими массами. Это развитие настолько очевидно, что оно заставляет югославских теоретиков говорить на таком языке, который счел бы своим любой либертарий. Например, один из них, Стане Кавчич, констатировал: «В будущем ударная сила социализма в Югославии не может быть политической партией и государством, действующим сверху вниз, но народом, гражданами, имеющими статус, позволяющий им действовать снизу». Он уверенно продолжает, что самоуправление все более и более ослабляет «твердую дисциплину и подчинение, которые характерны для всех политических партий».
Менее явная тенденция прослеживается в Алжире, поскольку там эксперимент начался позже и все еще подвергается сомнению. Причина может быть найдена в том факте, что в конце 1964 г. Хосин Захоуан, позже глава координационного совета Фронта национального освобождения, публично осудил тенденцию «органов опеки» занимать место выше членов групп самоуправления и осуществлять руководство ими. Он писал: «Когда это происходит, социализм перестает существовать. Происходит только смена формы эксплуатации рабочих». В завершение этого автор статьи требовал, чтобы трудящиеся «действительно стали хозяевами своего производства», чтобы ими больше не «манипулировали ради достижения целей, чуждых социализму». [110] Позднее Захоуан был смещен со своего поста в результате военного переворота и стал одним из лидеров подпольной социалистической оппозиции.
* * *
Итак, с какими бы трудностями ни сталкивалось самоуправление, в каких бы противоречиях оно ни плутало, оно уже сейчас позволяет массам пройти на практике через школу прямой демократии, действующей снизу вверх, оно позволяет им развиваться, поощряет и стимулирует свободную инициативу, внушает людям чувство ответственности, вместо того чтобы поддерживать — как это происходит в условиях государственного коммунизма — старые привычки к пассивности, подчинению и комплекс неполноценности, унаследованные от системы угнетения. Но даже если это обучение является иногда трудоемким, а продвижение медленным, если оно обременяет общество дополнительными издержками, если оно работает ценой некоторых ошибок и некоторого «беспорядка», многие из наблюдателей, однако, считают, что эти трудности, задержки и издержки, эти болезни роста менее вредны, чем ложный порядок, ложный блеск, ложная «эффективность» государственного коммунизма, который уменьшает значимость человека, убивает инициативу, парализует производство и, несмотря на материальные продвижения, полученные высокой ценой, дискредитирует самую идею социализма.
Даже СССР переоценивает свои методы экономического управления и продолжит это делать, если существующая тенденция к либерализации не сменится откатом к авторитаризму. Прежде чем уйти со своего поста, 15 октября 1964 г., Хрущев, казалось, понял, хотя робко и запоздало, потребность в децентрализации управления промышленностью. В декабре 1964 г. «Правда» опубликовала пространную статью «Общенародное государство», в которой автор стремился определить структурные изменения, отделяющие форму государства «обозначаемого как государство для каждого» от «диктатуры пролетариата»; а именно, продвижение к демократизации, участию масс в управлении общества через самоуправление, к оживлению советов, профсоюзов и т. д.
Французская «Le Monde» от 16 февраля 1965 г. опубликовала статью Мишеля Тату, озаглавленную «Большая проблема: освобождение экономики», разоблачающую самое серьезное зло, «проблемы советской бюрократической машины в целом, в особенности, в экономике». Высокий технический уровень, которого достигла советская экономика, делает верховенство бюрократии в управлении недопустимым. В настоящее время директора предприятий не могут принять решение по любому поводу, не обращаясь, по крайней мере, к одной, а чаще к полудюжине различных инстанций. «Никто не обсуждает замечательный технический, научный и экономический прогресс, достигнутый за тридцать лет сталинского планирования. В результате эта экономика находится теперь в группе развитых экономик, но старые структуры, которые позволили добиться этого уровня, теперь ей совсем не подходят». «Гораздо больше, чем частные реформы, необходимо глубокое изменение образа мысли и методов, своего рода новая десталинизация, которая обязана положить конец ненормальной инерции, проникающей на каждый уровень государственной машины». Однако, как указал Эрнест Мандель в своей статье во французском журнале «Les Temps Modernes», децентрализация не может останавливаться на предоставлении автономии директорам предприятий, она должна привести к реальному самоуправлению рабочих.
Читать дальше