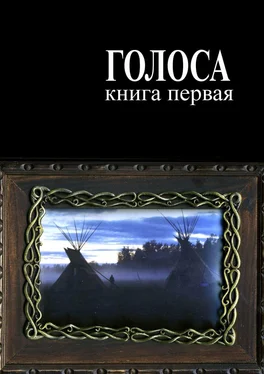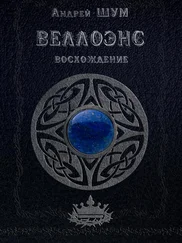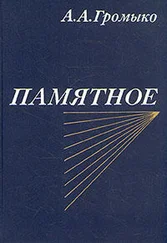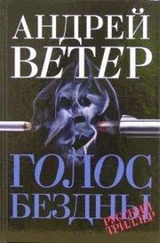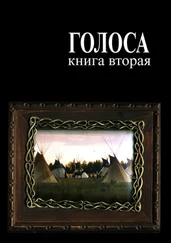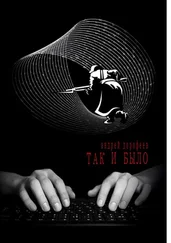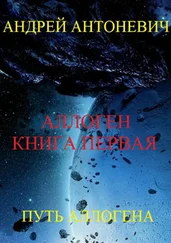Я тоже начитывал книгу на магнитофон, но преследовал иную цель. Меня глубоко тронула «Последняя граница» Говарда Фаста, и я хотел оживить её. Я читал в микрофон, а на задний план подкладывал музыку и всякие шумы – топот копыт, выстрелы, свист ветра. Из некоторых книг я выписывал наиболее понравившиеся фрагменты и делал к ним иллюстрации. Текст и картинки должны были находиться на одной странице и наползать друг на друга, тогда они становились для меня не просто самостоятельными рисунками, а составной частью книги, и через это я сам как бы делался частью произведения, сливаясь с текстом с помощью моих рисунков. Магия воображения…
Пытаясь разобраться в некоторых моментах прошлого, я стал задавать моим корреспондентам вопросы о Гойко Митиче и обнаружил, что люди, пришедшие в индеанистику в пост-советское время, не способны понять, кем был Гойко Митич для тех, чьё детство выпало на 1970—80 годы и кто увлёкся индейцами тогда. Мы ценили Гойко Митича не за талант и не за похожесть на индейца. Митич одарил нас уникальными чувствами. Сегодня кино не пробуждает таких чувств. Нам повезло: нам дали возможность ощутить чистоту романтики, и мы впитали её в себя. Фильмы с участием Гойко Митича дали мне идеалы и создали мир, куда я мог сбежать и где, вероятно, мог даже спрятаться. Этот мир разрастался по мере моего взросления, обретал новые черты и постепенно стал совсем не тем, каким был в детстве. Точно так же и я стал другим. Но параллельно с моим новым «Я» существует и прежний «Я», и у меня не возникает потребности расстаться с ним. Таких людей много, и мы безошибочно узнаём родственную душу, потому что мы видим друг в друге наше детство – его лучшую сторону. Подлинное взросление не лишает человека способности смотреть на мир глазами ребёнка.
Индеанистика советских времён – это детский идеализм. Индеанистика двадцать первого века – это взрослый прагматизм. Родившиеся на двадцать лет позже меня уже не способны понять, о каких материях я говорю. Заинтересовавшись индейцами сегодня, они никогда не увидят в них то, что видели мы. Они разглядят в них что-то своё, но никогда не станут теми, кем были мы. В нашем увлечении мы были настоящими богачами, ибо сокровища, которыми мы обладали, хранились внутри нас, это сокровища души. С расстояния прожитых лет говорить об этом можно уверенно.
История советских индеанистов – это рассказ о людях, которые чувствовали себя одинокими и долго не знали, что есть ещё кто-то, разделяющий их взгляды. Они долго искали друг друга, строили своё сообщество, примеряли на себя разные образы жизни, сходились и расходились. Одни исчезли, другие остались, некоторые стали легендой, кто-то живёт одиноко, кто-то предпочитает общину. История индеанистов полна мифов, как всякая другая история, но у меня нет желания выискивать истину, делать какие-либо умозаключения, оспаривать чью-то точку зрения. Я лишь попытался собрать воспоминания разных людей о разных событиях – значительных и малозначительных.
Кто-то захотел поделиться своими воспоминаниями и мыслями для этой книги, кто-то отказался. Индеанисты обладают всеми известными человеческими слабостями, среди которых лень занимает не последнее место. Это просто срез общества. В этой книге собраны также публикации советской прессы об индеанистах, о Пау-Вау, об алтайской общине; эти публикации сыграли важную роль в жизни некоторых людей, поменяли их судьбу.
Я не «прилизывал» присланные мне тексты – у каждого автора своё лицо, своя степень открытости, свои неповторимые чувства к прошлому и своя вера в будущее. Я позволил себе сделать лишь несколько принципиальных редакторских правок: во-первых, исправил написание индейских племён, всюду поставив заглавную букву, поскольку для меня любое индейское племя является живым организмом, со своим характером и своими традициями, поэтому название племени – это имя собственное, во-вторых, привёл к единой форме слово «Пау-Вау», ибо кто-то пишет его слитно, кто-то – раздельно, кто-то – с маленькой буквы, кто-то – с большой. Надеюсь, авторы размещённых здесь текстов простят мне эту мою давнюю прихоть.
В 1973 году мне было тринадцать лет, я жил с родителями за границей. В городке при советском посольстве не было телевизоров, поэтому новости поступали только через газеты и журналы. Газет я не читал, политическая информация меня не интересовала. Не помню, как я узнал о событиях в Вундед-Ни, но узнал с опозданием, быть может, через пару месяцев, а то и позже. Кто-то из друзей принёс мне газету, где была большая статья. Чуть позже кто-то другой принёс журнал «Костёр». В резервации Пайн Ридж всё уже закончилось, и я воспринял информацию о восстании в Вундед-Ни как и всё остальное об индейцах – то есть как историю. Года через три, уже в Москве, мне в руки попал журнал «Новое время», где была публикация о событиях 1973 года. Это восстание сделалось вдруг необычайно близким, словно вчера случившимся. Внезапно индейцы оказались в одном со мной времени и продолжали сопротивляться колонизаторам, далёкое прошлое как бы соединилось с днём сегодняшним – примерно такое чувство появилось во мне в те дни. Впрочем, это чувство быстро испарилось. Индейцы девятнадцатого столетия – вот что интересовало меня в первую очередь. Остальное являлось своеобразным необязательным для меня «довеском»… Весь трагизм и глубину событий 1973 года я осознал значительно позже.
Читать дальше