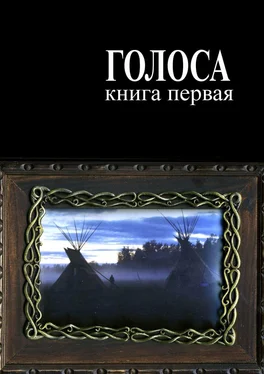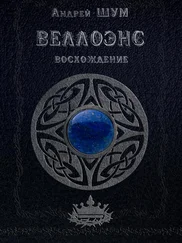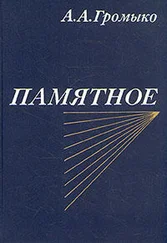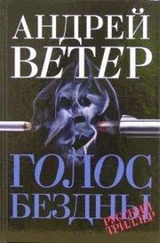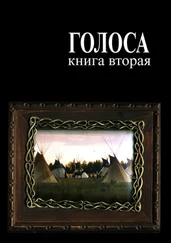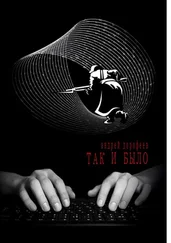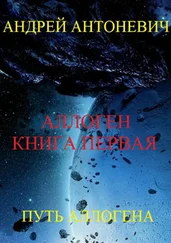В эти дни я читал мемуары Натальи Варлей, некогда известной на всю страну актрисы. В самом начале книги она написала: «В старости вдруг понимаешь, что всё прошло и никогда уже не вернётся. И некому „подхватить выпавшее знамя“. И ты, как рыба, выброшенная из родной стихии на песок, хватаешь воздух ртом – воздух воспоминаний своей так быстро пролетевшей жизни. А те, кто смотрит на тебя в это время, недоумевают или даже стыдятся, стараются не замечать твоих некрасивых слёз, не позволяют утянуть себя в эти волны, которые ещё бушуют внутри тебя… И в здешнем мире тебе отводится совсем небольшое место…»
Такие простые слова. Некому будет подхватить выпавшее знамя. Да и не узнает никто об этом знамени, если не рассказать о нём. Надеюсь, что в этой книге удастся поведать о том, что грело наши сердца не один десяток лет. Но я не автор этой книги. Она наполнена голосами и судьбами людей, не похожих друг на друга, и всё-таки очень схожих в том, как они открывали индейцев в себе и искали их вокруг себя.
Взявшись за это дело, я понимал, что оно интересно мне, но не был уверен, что оно будет интересно другим людям. Далеко не все согласились принять участие в этой книге, многие упорно не отвечали на мои вопросы, словно не замечая моих писем. Таких людей оказалось большинство. Их молчание угнетало и раздражало. Я называю такую реакцию пассивной агрессивностью. В этой пассивности люди трусливо прячут свою внутреннюю пустоту. Несколько человек высказались против появления этой книги, высказались злобно, и причину их злобности я не понимаю до сих пор. Возможно, всё дело в том, что я спросил их о прошлом, о мире, из которого они давно ушли и от которого у них не осталось ничего, кроме расшитых бисером вещей; меня же интересовала их душа, их чувства, их мысли. В их прошлом осталось то, чего они теперь лишены, то, что они, возможно, предали, но не готовы признаться в этом.
Когда основной материал был уже собран, я вдруг получил письмо, автор которого просил меня удалить из книги его воспоминания, испугавшись того, что могут сказать о нём индеанисты. Меня сильно огорчила его просьба, потому что он написал правдивую историю о себе, полную мыслей и чувств… Другой мой корреспондент решил помочь мне в сборе материалов по истории Движения индеанистов и принялся самостоятельно задавать вопросы своим товарищам по далёкой индейской юности. Они насторожились: «Зачем тебе это? Что ты вынюхиваешь?» И он перестал расспрашивать…
По этой причине в книге будут пробелы, возможно, даже серьёзные пробелы. И всё же меня греет мысль, что я положу начало, а кто-нибудь однажды продолжит. Мы должны рассказать, потому что мы – уже история. Индеанистов, появившихся в советскую пору, никогда больше не будет, и новое поколение, вышедшее из чрева интернет-цивилизации, не сможет понять того, что происходило с нами.
Мне всегда хотелось почувствовать чужую душу. Почему мы все разные, живя в одном обществе? Почему мы не похожи друг на друга даже в наших совместных играх? Почему мы не можем понять друг друга? Почему мы занимаемся похожими делами, но хотим добиться разных результатов? Мы незаметно вливаемся в новые условия, привыкаем к ним. Мы понимаем то, что происходит с новым поколением, однако новое поколение не понимает нас, ведь мы продолжаем ценить то, что им кажется ерундой. Взять хотя бы книги…
Добыть нужную книгу в Советском Союзе было делом непростым. Книги были настоящим сокровищем. Книгами дорожили. Если кто-то брал у друзей книгу почитать и «заигрывал» её (иначе говоря – не отдавал), то это считалось худшим из преступлений. Книги издавались гигантскими тиражами и тут же без остатка растворялись в огромной стране. Каждый из нас хотел, конечно, иметь у себя дома, под рукой, свою собственную полюбившуюся книгу. Один из моих корреспондентов написал мне, когда речь зашла о том, как мы в эпоху СССР собирали книги: «У меня „болезнь“ по индейским книгам протекала следующим образом. В шестом классе специально освоил фотографию, чтобы расширять свою библиотеку. Полностью переснял Шульца „Моя жизнь среди индейцев“, распечатал в виде фотографий и сделал примитивный переплёт. Получилась книга высотой как два кирпичика хлеба, поставленные друг на друга. В том же году ходил а городскую библиотеку и от руки, как средневековый монах Библию, переписал полностью Ди Брауна „Схорони моё сердце“ из журнала „США: экономика, политика, идеология“ (журнал на руки не давали)». Алекс Кучменёв добавил красок в эту картину: «В далёком 1977 году Женя Малахов (Четан) рассказал мне, что ребята то ли из Пензы, то ли из Саратова „переиздали“ вручную книгу Сат-Ока „Земля Солёных Скал“: переписали текст печатными буквами, перевели иллюстрации и воссоздали переплёт. Фактически её реконструировали (это при цене 44 копейки и тираже 75000 экз.!!!). А не было её нигде, просто НЕ БЫЛО. Мне она досталась году в 76-м, сильно потрёпанная. Из соседнего класса парень фанател от детективов (как я от индейцев), вот и махнулись книгами – я ему „Тайну музея восковых фигур“ (мура изрядная), а он мне Сат-Ока. Расстались оба два победителями)) Кстати, он теперь областной прокурор!» Денис Воробьёв рассказал мне, что в детстве он взял книгу Сат-Ока в библиотеке и, чтобы сохранить её у себя, начитал её на магнитофон. Вот как сильно ребёнку хотелось иметь ту книгу! Способны ли сегодняшние дети, вскормленные неохватными возможностями интернета, понять это?
Читать дальше