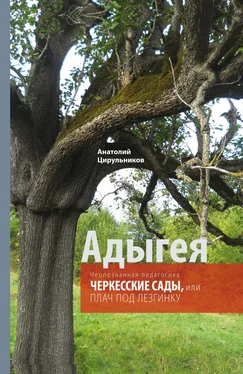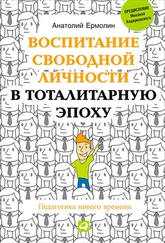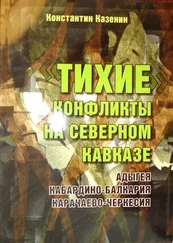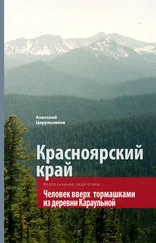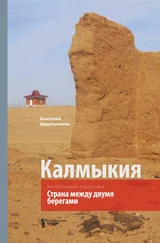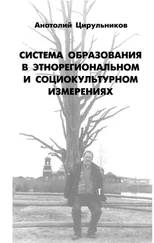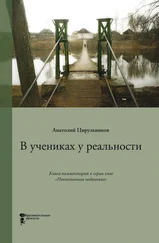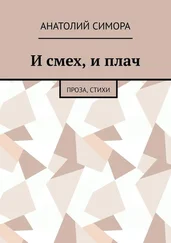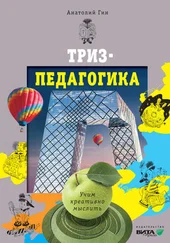«…Я заметил, – заключает Н. И. Лорер, – что Раевскому сделалось как-то неловко, и он поторопился кончить этот щекотливый разговор».
Разговор с теми, кого русская власть, образованное общество за людей не считали, не случайно и в двадцатом веке именовали «инородцами».
Впрочем, Раевскому, видимо, была присуща… если не совесть, то нечто такое, о чём сто лет спустя заметит поэт: «если нету и совести даже – муки совести вроде бы есть».
И разум… Генерал был сторонником присоединения Кавказа к России, но понимал, что сделать это будет гораздо легче, если развивать торговые отношения с горцами. Достижение же цели одними военными методами, писал он в записке властям, «повлечёт за собой все бесчисленные и грязные злоупотребления, неразлучные с разбойничьей войной, которую называют частными экспедициями или набегами».
Другие считали иначе. Один из организаторов карательных экспедиций и набегов генерал-майор Г. Х. Засс имел своеобразное хобби – скупал, продавал и коллекционировал головы погибших черкесов. Генерал Филипсон свидетельствовал: «…Через год я встретил генерала Засса в Ставрополе. Он ехал в санях, а другие сани, закрытые полостию, ехали за ним. «Куда это, ваше превосходительство и что вы везёте?» – «Еду, земляк, в отпуск и везу Вельяминову в сдачу решённые дела». С этим словом он открыл полость, и я увидел штук пятьдесят голых черепов. Вельяминов отправил их в Академию наук».
Декабрист Лорер в своих «Записках» вспоминал: Засс был убеждён в том, что народы Кавказа надо взять страхом и грозой. Филантропия не годится. Вешать беспощадно, грабя и сжигая аулы.
По словам Лорера, «именно в поддержании проповедуемой Зассом идеи страха на нарочно высыпанном кургане у Прочного Окопа при Зассе постоянно на пиках торчали черкесские головы. И бороды их развевались по ветру. Грустно было смотреть на это отвратительное зрелище».
«Раз Засс, – продолжал Лорер, – пригласил к себе мадам Нарышкину, и она согласилась с условием, что неприятельские головы будут сняты. Засс исполнил её желание. И мы все были у него в гостях. Взойдя как-то в кабинет генерала, я был поражён каким-то нестерпимым отвратительным запахом, а Засс, смеючись, вывел нас из заблуждения, сказав, что люди его, вероятно, поставили под кровать ящик с головами, которые страшно смотрели на нас своими стеклянными глазами. ˝Зачем они здесь у вас?˝ – ˝Я их вывариваю, очищаю и рассылаю по разным анатомическим кабинетам и друзьям моим профессорам в Берлин˝. Мне показался страшным генерал Засс».
Сценка как будто из других времён, но происходит не в концлагере смерти, а в гостях у русского генерала, неважно, кто он по происхождению.
* * *
К сожалению, глядя на портреты русских генералов той войны, со звёздами, эполетами, читая их служебные записки и рапорты, испытываешь несколько иное впечатление, чем от «героев 1812 года». Наверное, и их мы романтизируем, люди есть люди. Но те защищали Отечество, а эти «герои» были просто захватчиками никогда не принадлежавших России земель, истребителями других, живших своей жизнью народов. Никто не звал их сюда, ни с мечом, ни без него…
И всё же, «муки совести».
В 1841 году в рапорте военному министру графу Чернышёву генерал-лейтенант Раевский сообщает:
«Я здесь первый и один восстал против пагубных военных действий на Кавказе, и от этого вынужден покинуть край. Наши действия… напоминают бедствия первоначального завоевания Америки испанцами; но я не вижу ни подвигов геройства, ни успехов завоеваний Пицара и Кортеца. Дай Бог, чтобы завоевание Кавказа не оставило в русской истории кровавого следа, подобного тому, какой оставили эти завоеватели в истории испанской…»
Увы, завоевание Кавказа оставило след. Такой позорный для русской истории, что пятно легло даже на Пушкина, в это самое время весело и безмятежно писавшего в письмах брату о своей службе и путешествиях по Кавказу, на Айвазовского, чьи живописные картины изображали – что уж там скрывать, с воодушевлением изображали, – «героическую высадку» русских у рек Сахе и Субаши 3 мая 1839 года.
В десантных операциях Черноморского флота и строительстве укреплений принимали участие и те, кто восставал против тирании, чьи имена связываются в нашем представлении с благородными намерениями и любовью к отечеству, – декабристы. Одни попадали в Кавказский корпус по приговору суда, другие после отбывания каторги и ссылки в Сибири. Многие были убеждены, что несут на Кавказ «образование», «цивилизацию», не упуская и случай «отличиться в деле». Были и те, кто понимал, что «огонь и меч не принесут пользы». «Да и кто дал нам право, – писал декабрист Лорер, – таким образом вносить образование к людям, которые довольствуются своею свободою и собственностью?»
Читать дальше