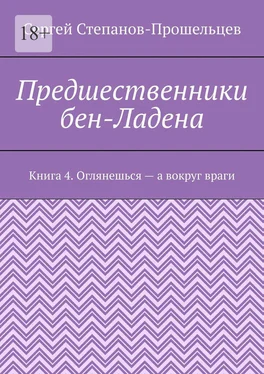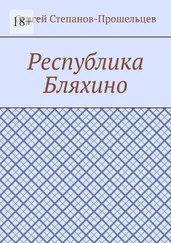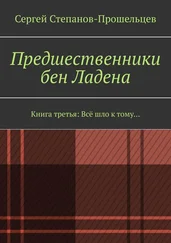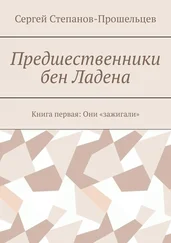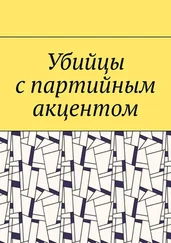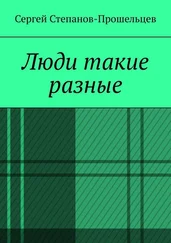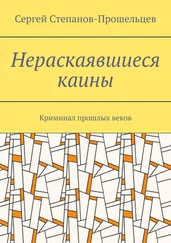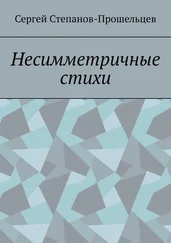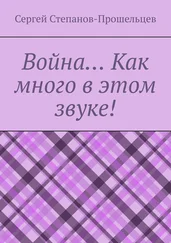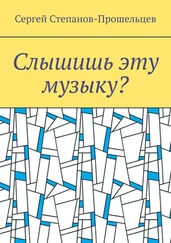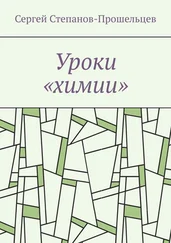Костяк аппарата Нижегородской ЧК также составили латыши: Антон Лелапш, братья Ян и Роберт Шепте, Николай и Карл Карре, Криппен, Осман, Ансон, Вилит, Кривеньш, Юлий Берзиньш, Ян Барр, Пётр Маркус…
После 1920 года, когда был заключён мирный договор с Латвией, латышских стрелков и чекистов стало меньше. Многие устремились к родным пенатам, забыв про классовую борьбу. А в 30-х годах прошлого века репрессии коснулись и верных церберов большевизма. Под каток попали практически все, кто носил латышскую фамилию.
В Нижнем Новгороде октябрьский переворот 1917 года обошелся малой кровью. Причина состояла не в том, что мало кто из горожан принимал местных революционеров всерьёз и у них не было достаточной поддержки. Дело в другом. В стане местных большевиков наблюдались разброд и шатания, а губернская организация РСДРП (б) насчитывала всего 3 тысячи человек. Впрочем, главным было то, что нижегородские ревкомовцы тогда ещё не до конца постигли науку ненависти к собственному народу. Только потом, набравшись опыта у «старших товарищей» из Питера, они утвердились в роли победителей и вершителей судеб.
Накануне
Начало октября 1917 года. Ситуация аховая. Если в 1916 году в Нижнем Новгороде закрылось 16 предприятий, то с марта по октябрь 1917 года – 36. За этот период было зарегистрировано 480 погромов помещичьих усадьб, самовольных покосов и порубок леса. Погромщики уводили и резали барский племенной скот, ломали инвентарь, избивали до полусмерти управляющих имениями. Помещик села Вельдеманова Княгининского уезда Корвин-Круковский жаловался, например, что его ограбили, а его «сторожевых собак повесили» (ГКУ ЦАНО).
14 октября. Толпа женщин, не дождавшись привоза хлеба на Старо-Сенной площади, разгромила городскую продовольственную управу. В округе бушуют пожары. В чёрном переделе помещичьего имущества принимают активное участие не только сельские люмпены, но и кулаки. «Депутация от крестьян села Василёв Майдан заявила мне, что земля, луга, урожаи ржи отныне, согласно приговору общества, принадлежат им, – телеграфировал комиссару Временного правительства по Нижегородской губернии М. И. Сумгину помещик Струговщиков из Лукояновского уезда. – Руководит этим обществом, где большинство кулаки, матрос из Кронштадта» (ГКУ ЦАНО). «Разорение полное, – констатирует Сумгин в своем докладе Временному правительству: – уничтожена вся культурная сельскохозяйственная работа – плодовые сады, племенные питомники, семенные хозяйства. Восстановить – потребуются годы. Все деревни переполнены обломками от грабежей усадеб. В грабежах участвуют даже подростки, и мы имеем в этом отношении очень тяжелые последствия» (там же).
15 октября. В Нижнем Новгороде неспокойно. Дневная норма выдачи хлеба сократилась до 400—600 граммов на человека. «В губернии наступает голод, – телеграфирует в МВД Временного правительства Сумгин. — Налицо полный недостаток ржаной муки и других предметов первой необходимости и невозможность получения их из других губерний… Положение масс, несмотря на увеличение зарплаты, очень и очень неустойчивое. В то время, как зарплата поднялась всего на 50 процентов и лишь у некоторых категорий (слесарей, токарей, монтёров) на 100—200 процентов, цены на все продукты возросли на 100—500 процентов… В связи с этим повсюду настроение достигло такого взрывного характера, что достаточно какого-нибудь пустяка, чтобы вызвать беспорядки» (там же).
Противостояние
Ещё в сентябре 1917 года Ленин предлагал взять курс на вооруженное восстание. Но он оказался в меньшинстве и даже подал прошение об отставке, «оставляя за собой право агитировать в партийных низах против Центрального комитета». (Ленин В. И. ПСС, т.34). Но 10 октября вождь пролетариата всё-таки переубедил колеблющихся.
То же самое происходило и в Нижнем Новгороде. Ветераны-партийцы и здесь высказались против вооруженного захвата власти. Один из них, член Сормовского комитета РСДРП Герман Биткер, призывал товарищей предупредить членов ЦК о том, что их решение ошибочное. Его поддержали секретарь Нижегородского совета рабочих депутатов, член губкома РСДРП А. В. Савельева, Е. А. Дунаев и И. Р. Романов.
«Ярым сторонником экстремистского решения вопроса были секретарь Канавинского комитета РСДРП (б) Яков Воробьев, он же Григорий Коц, и его единомышленники, сормовичи Маркел Сергушев и Анатолий Писарев, избранные 24 октября в губернский штаб Красной гвардии. Этот штаб работал круглосуточно» (Казаков В. А. Горьковская областная организация КПСС. Хроника, Книга первая. Горький, Верхне-Волжское книжное издательство, 1989).
Читать дальше