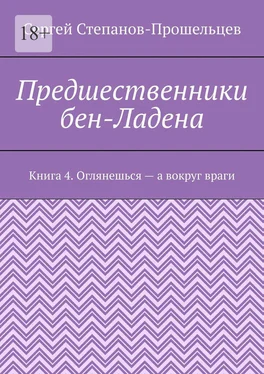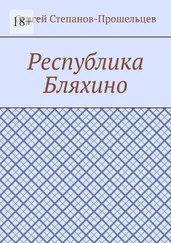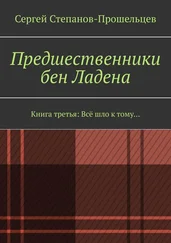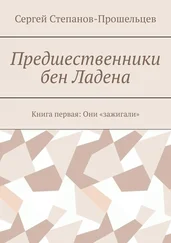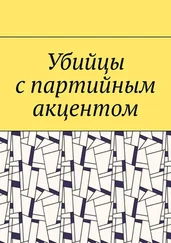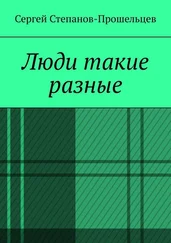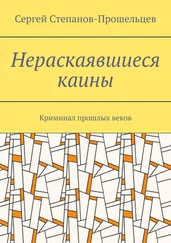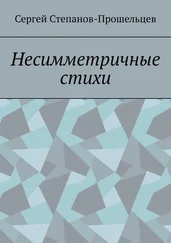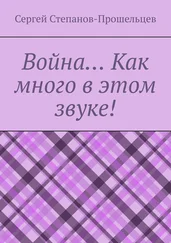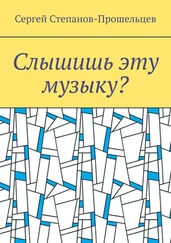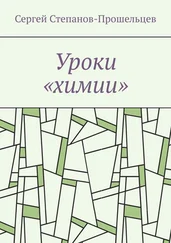Штатному контролёру удалось оторваться от преследователей. Но на следующий день у дома на улице Ошарской, где проживал Нардов, собралась толпа. Грузчики Мочального, бросив работу, пришли качать свои права, требуя возврата спиртного.
Нардова дома не оказалось, и толпа повалила в губернское акцизное управление. По пути «обиженные» разбили несколько витрин, своротили пару афишных тумб. Но своего обидчика они так и не отыскали.
Полиция ввиду своей малочисленности совладать с бунтовщиками не смогла. Она только констатировала в донесении губернатору Павлу Унтербергеру: «Пьяные бродят по Алексеевской улице, а у винных лавок распивают водку в открытую» (ГКУ ЦАНО).
На острове Мочальном после этого был введен сухой закон. Отсидев месяц в тюрьме, Храмов вернулся. По свидетельству осведомителя полиции, появившись у своей чайной после освобождения, он нашёл её опечатанной и «выругался самыми богохульными словами (там же). А грузчик Шмаков, который в отличие от других был трезвенником, неожиданно разразился проклятьями. «Пусть этот остров кровью зальется, как заливает его в половодье!» – сказал он.
Слова его оказались пророческими.
1918-й
В ночь на 1 сентября 1918 года большую группу заложников латыши из нижегородской чрезвычайки расстреляли на Мочальном острове из пулемётов. В числе первых жертв беспредела большевиков были архимандрит Оранского монастыря Августин (Пятницкий), настоятель нижегородской Казанской церкви Николай Орловский, генерал Михаил Чернов, армейские офицеры, общественные деятели. Их участь разделили бывший начальник жандармского управления полковник Иван Мазурин, уездные исправники и становые приставы, множество сельских урядников, городовых, надзирателей, служащих охранного отделения. Потом здесь казнили Константина Вуколова, который воевал с белыми под началом Семёна Будённого в Первой конной армии. Якобы за то, что подавлял вооруженное выступление сормовичей в декабре 1905 года. На самом деле в это время Вуколов находился в Костроме.
Сюда везли «контру» и из глубинки. Сергачская уездная газета «Дума пахаря» 4 сентября 1918 года сообщала: «Вчера по постановлению Военно-Революционного Штаба расстреляно 5 человек в отмщение за покушение на наших вождей: 1) Фертман А. Л. – спекулянт. 2) Приклонская – помещица. 3) Никольский – протоиерей. 4) Рыбаков И. Г. – офицер. 5) Рудневский Н. – офицер».
25-летний Иван Рыбаков не числился в расстрельных списках. Чекисты пришли за его отцом, Григорием Дементьевичем, бывшим полицейским урядником. Но дома его не оказалось. И тогда кто-то из латышей ткнул пальцем в сына:
– Тогда ты пойдешь.
Иван Рыбаков во время Первой мировой войны был прапорщиком, за проявленную храбрость его наградили георгиевским крестом.
Протоиерей Сергачского Владимирского собора Николай Никольский смерти смотрел в глаза. Когда перед расстрелом ему приказали отвернуться, он осенил себя крестным знамением и сказал:
– Спаситель не отворачивался, когда его распинали, и мы не будем.
Николай Рудневский учился в Петроградском институте инженеров путей сообщения на средства земской управы. Почему в расстрельном списке его назвали офицером, неясно. То ли мундир учащегося-путейца ввел в заблуждение, то ли «офицер» лучше подходил для отчета.
Газеты ежедневно публиковали сообщения о казнях: «Приговорён к расстрелу инструктор 4-го нижегородского советского полка Александр Антонович Тамлехт, обвинявшийся в побеге из полка и несочувствии соввласти», без суда были казнены 76-летний васильсурский помещик А. А. Демидов, страховой агент Л. А. Петровский, милиционер Ерин…
Латышские стрелки за работой
В 1918 году Нижегородская чрезвычайка выросла с 6 человек до 1065. Чужими фамилиями пестрят протоколы расстрелов того времени: Клавс, Буссе, Шепте, Таурин (вероятно, Тауриньш), Барр, Баллод (Балодис), Штромберг, Бредис, Лелапш, Карре, Юргенс, Грубе, Михельсон…
Латыши наводили ужас на нижегородцев. Особой жестокостью отличались они при подавлении крестьянских восстаний. Бессудные расправы приобрели такой масштаб, что отдел юстиции губисполкома однажды призвал «учреждения и должностных лиц умерить пыл». Но этот призыв, опубликованный 11 декабря 1918 года в «Нижегородской коммуне». Но этот призыв встретил обратную реакцию. Сразу же после этого большевики расстреляли 46 крестьян села Емангаш и 50 жителей татарского села Семеновка.
Читать дальше