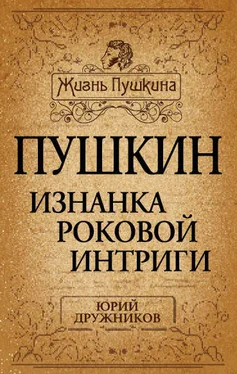В отдельных случаях, нам кажется, можно пойти дальше двоеречеведа Лутца. Доказательство этого применительно к Пушкину сохранилось в мемуарах. Объясняя чуть позже приятелю А. Вульфу свое состояние, Пушкин сказал: «Я был в затруднении, когда Николай спросил мое мнение о сем предмете. Мне бы легко было написать то, чего хотели, но не надобно же пропускать такого случая, чтоб сделать добро. Однако я между прочим сказал, что должно подавить частное воспитание. Несмотря на то, мне вымыли голову» [377]. Заметим: написать то, чего от него хотели (то есть не то, что он хотел написать, а раздвоиться и написать, что требовали) Пушкину было бы легко. Здесь два крайних слоя: думал, когда писал записку, одно, написал другое, неадекватное тому, что думал. Но Пушкин усложнил свою задачу: кое-что из первого слоя выделил. Это же, третье, устно сказал приятелю, что поднимает его в глазах Вульфа (и в наших глазах). Налицо – троеречие (triplespeak).
Свойственно это именно русскому поэту или универсально? Ведь у Байрона тоже читаем:
Во мне всегда, насколько мог постичь я,
Две-три души живут в одном обличье [378].
Разница в том, что у Байрона это свидетельствовало о духовном богатстве и естественной противоречивости свободной человеческой натуры, а у русского поэта – раба на цепи – это страх сказать что думаешь, обязанность соглашаться с теми, от кого зависит жизнь [379]. В принципе, однако, надо говорить о мультиречии ( multispeak ; термин многоречие по понятным причинам не совсем подходит).
В психоанализе раздвоение Ego рассматривается как сознательное и подсознательное. Из этого проистекает, что мы имеем дело с multiple personality. Когда включается защитный механизм , то личность говорит не то, что думает. В психоанализе почти любая амбивалентность объясняется проблемой с матерью, однако рассуждения в этом направлении уведут нас в сторону. Оставим их психоаналитикам, а себе экзистенциальный аспект проблемы. Вне психоанализа, заметим: ум в том, чтобы уметь, когда надо, притворяться. Дурак обычно прям. Пушкин играл игру сознательно, используя двоеречие и мультиречие как практический инструмент, который можно менять в зависимости от обстоятельств.
Термины, конечно же, условны. Оруэлл, открыв для себя doublethink, не предполагал существования таких возможностей человека в живой тоталитарной стране. За полтораста лет до английского коммуниста-ревизиониста Пушкин оказался сложнее. Оруэлл явил блистательное сатирическое упрощение. В нашем романе «Ангелы на кончике иглы» проделан анализ речевого поведения советского главного редактора – сколько у него степеней правды [380]? Тут происходит фильтрация и сортировка по ячейкам, кому что можно сказать. Степеней саморазрешения в высказывании правды практически неограниченно много, начиная с того, что всю правду нельзя сказать никому («Мысль изреченная есть ложь»). Разные же количества ее получают жена, любовница, друзья – меньше дома, где стоит телефон, больше – на улице, где вокруг никого нет. Разные правды идут знакомым, сослуживцам, начальнику, более высокому начальнику, незнакомым, сексотам и т. д. Один и тот же факт, рассказанный жене, может интерпретироваться в разговоре с этими людьми с разными акцентами, а с сослуживцем, который подозревается в стукачестве, прямо в противоположном смысле.
Оруэлл, его роман и двоеречие были запретными темами в совке, но там же тщательно изучались в лабораториях спецслужб, в частности в засекреченной части Института психологии Академии наук, где проводились даже эксперименты над солдатами [381]. Но не Оруэлл, а Пушкин – наш «профессор двоеречия», предтеча советской интеллигенции. В записке «О народном воспитании» ему несложно было «разделяться». Поэт лениво, без трагедии, излагает мысли, которых не разделяет, но которые от него требуют. Впрочем, он и сам признается в двоемыслии, когда в письме от 7 марта 1826 года просит Жуковского помочь ему вернуться из ссылки: «Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости». Значит, по меньшей мере, то, что у него в мыслях, отличается от того, что готов высказать.
Думал ли он о наказании, если скажет больше, чем ждут? Похоже, опасался рассердить «высокое начальство», ибо строка неосуществленного стихотворения «И я бы мог, как шут, висеть…» в рукописи, в так называемой Третьей масонской тетради, находится рядом с черновиком записки «О народном воспитании». Эйдельман считал, что «окрик свыше (то есть строгое напоминание Бенкендорфа. – Ю.Д.) безусловно возмутил и пушкинское чувство собственного достоинства…» [382]. Возможно, это и так, но возмущению опять-таки нет подтверждений, это домысел. Зато есть подтверждение, как советские граждане выражались в поздние годы, «чувству глубокого удовлетворения», оформленному как единение с официальной платформой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу