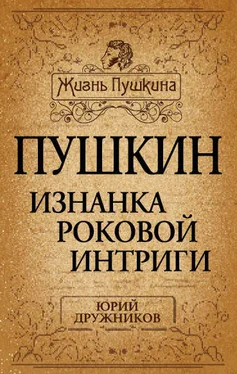Государственное веселье по поводу столетия со дня смерти Пушкина в 1937 году прикрывало самый страшный террор в истории России. Двадцатилетние провалы в библиографиях советских пушкинистов с тридцатых до второй половины пятидесятых годов говорят сами за себя. Юлиан Оксман, одно время заместитель директора Пушкинского Дома, получил десять лет лагерей, отсидел, вышел и был сослан в Саратов; печатали его под псевдонимом, а позже исключили из Союза писателей за то, что пытался разоблачить стукачей сталинского времени. В 1970 году он, затравленный, умер. Лишь после смерти его труды разрешили упоминать. В шестидесятые годы преследовали Ю. Лотмана, как подписанта. Группу слегка диссидентствовавших аспирантов обвинили в том, что в подвалах Пушкинского Дома они хранили оружие.
«Пушлит» как филиал Главлита
Страх сказать не то о Пушкине, опасность пропустить не только свою, но чужую мысль, отклоняющуюся от догмы, сковал служащих в пушкинистике. Партийные вожди вряд ли читали их труды. Они диктовали общие установки, а под них специалистами – коллективным умом Пушкина – подбирались из поэта цитаты. Появился термин «пропаганда творчества» Пушкина. Как правильно пропагандировать – об этом тоже издавалась специальная литература [500]. От партийной пушкинистики другого и ждать было нельзя, остается только удивляться, как серьезным историкам литературы удавалось продолжать исследования. Попытки критики пресекались. Модест Гофман был объявлен врагом в двадцатые. Ю. Тынянов и В. Вересаев замалчивались десятилетиями. Статья Тынянова «Мнимый Пушкин» увидела свет через 55 лет. Бурю возмущения вызвали написанные в лагере и изданные в Лондоне «Прогулки с Пушкиным» Андрея Синявского.
Комментарии сковывали Пушкина не слабее, чем наручники. В них педалировалось то, что сейчас полезно, нецелесообразное опускалось. Постепенно складывались определенные принципы отбора произведений Пушкина для массового читателя. В учебниках выпячивались политические, антисамодержавные стихи. Не соответствующие требованиям строки поэта трактовались искаженно, либо не упоминались вовсе. Так, скабрезная «Гавриилиада», от которой поэт сам открещивался, стала являть собой «лучший образец мировой антирелигиозной сатиры» [501].
В начале тридцатых Пушкина упрекали в космополитизме [502]. А в кампанию борьбы с космополитизмом поэт стал образцом русского патриота. В Пушкине боролись, оказывается, два влияния: западное и русское, и после 1825 года русское влияние взяло верх. Поэт осознал пагубность чужеземного идеологизма [503]. И, конечно, «жизнь поэта была непрерывной борьбой с религией и церковниками» [504]. Пушкина превратили в одержимого революционера ленинского призыва: «Центральным вопросом его исторических исследований является русская революция» [505]. Ему присвоено звание «Историк революционного движения в России» [506].
Поэт эксплуатировался партийными аппаратчиками от культуры, чекистами, охранявшими граждан от инакомыслия. До чего только не договаривались, чтобы угодить власти! На заседании Пушкинской комиссии в 1936 году слово «влияние» применительно к Пушкину предлагалось запретить [507]. Писалось, например, что бесы у Пушкина – это представители белоэмиграции [508]. Политизация трансформировалась в поэтические строки:
…Наемника безжалостную руку
наводит на поэта Николай.
Это Эдуард Багрицкий, стихотворение «Пушкин», 1924 год. Поэт Ярослав Смеляков был еще решительней:
Мы твоих убийц не позабыли:
в зимний день под заревом небес
мы царю России возвратили
пулю, что послал в тебя Дантес [509].
Ограничимся этими цитатами из советской поэзии, а вообще-то можно собрать целую книгу подобных шедевров.
Источники по Пушкину окружались многочисленными табу. Даже в национальных библиотеках имени Ленина и Салтыкова-Щедрина были изъяты книги всех нежелательных пушкинистов по спискам, подготовленным их коллегами в Пушкинском Доме. Выдавались книги о Пушкине только советские (на остальные оформлялись документы в спецхране). Созданием библиотеки, открытой при жизни Пушкина (1829), Одесса обязана графу Воронцову. Сотрудники библиотеки гордились старинными книгами тех лет и даже ее директором пушкинистом де Рибасом, но не допускали к этим книгам читателей. На отказе выдать мне книгу в 1985 году надпись библиографа гласила: «Это религиозная!» При мне в Одесской областной библиотеке ставили датчики сигнализации на дверцы шкафов. «Зачем? – спросил я. – Ведь в здании ночью охранники…» – «А чтобы они этих книг не читали», – объяснила директриса. И в Одессе же полтора столетия гнила личная библиотека Инзова, сваленная в подвале. На просьбу ее осмотреть был получен ответ: «Библиотекари сами не могут туда добраться».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу