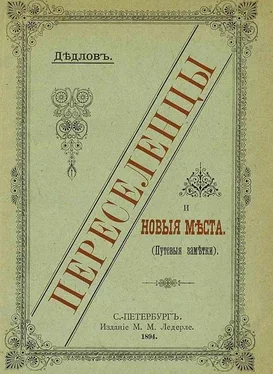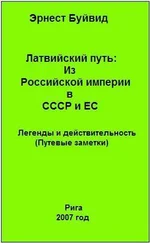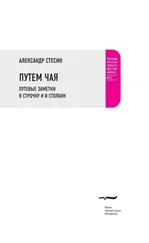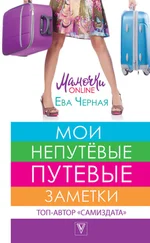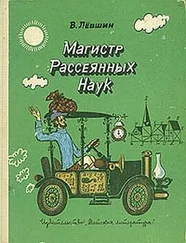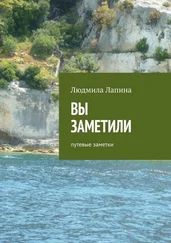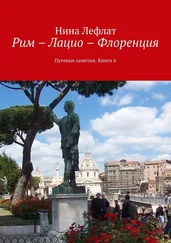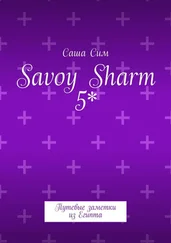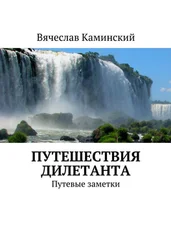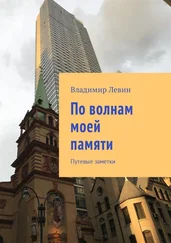— Право!
Голоса становятся все могучее. Слова, которыми обмениваются противники, совершенно бессмысленны. Но им смысла и не нужно; тут все дело в нахрапе, — кто кого испугается. Я выглянул в дверь и, признаться, при виде двух колоссов, от которых, как от горячо натопленных печей, пышало злостью, пожелал, чтобы они подрались: это было бы грандиозным зрелищем. К сожалению, колоссы не сцепились. Повторяя друг за другом, как два эхо, одни и те же слова: хайло, право, то-то, — они потоптались друг перед другом, потом пришедший вдруг плюнул и вышел из дому.
Дикость казака заражает и мужиков, переселяющихся сюда из внутренних губерний. Не только крутой великоросс усваивает разбойничье ухарство казака, но даже и мягкий в манерах хохол, говорящий своей жинке «вы», и тот меняет свой «полтавский тенор» на сиплый баритон, а сиротские манеры — на ухватки барантовщика. Сибирские казаки, как рассказывают, уже до того одичали, что считают особенным шиком говорить между собою не по-русски, а на местных инородческих наречиях: совсем как дети, которые придают своему лицу «зверское» выражение, когда играют майн-ридовских индейцев. Оренбургские казаки тоже не от-роду такие дикари. Набирались они отовсюду из внутренних губерний и освирепели только здесь, в полу-Азии.
Подражая казацкому ухарству, переселенцы подражают и их лени, но в этом случае уже невольно: тут нет никаких заработков. Отсеялся весною — и сиди до сенокоса. Скосил сено, убрал и смолотил хлеб — и сиди или лежи до следующей весны. Поля и луга у переселенцев не то, что у казаков, — маленькие; урожаи на них еще меньше, и работать, хоть-бы и хотел, нечего. В урожайные годы — семимесячное ничегонеделание; в неурожайные, притом очень частые, ничегонеделание и проголодь, а то и прямо голод. Как выдерживают люди такое существование, непостижимо. Зато вполне постижимо, что они дичают, и, ушедши с более культурной «старины», где есть и кое-какие школы, и книжонки, и гуманная барышня-акушерка, и грамотный учитель, и недалекий город, возвращаются в состояние шестнадцатого столетия.
Во ста верстах от Оренбурга, за поселком Герьяльским, степь все чаще и чаще начинает перерезаться грядами небольших холмов, — сыртами. Это последние отголоски Уральского хребта. Гряды висят, точно кисти привешанные к Уралу. Между нитями этой кисти лежат плоские равнины, на которых приютились станицы со своими полями. Полей много, но пашут клочками и кусками, года три подряд в одном месте, потом в другом. Паровые поля зарастают почти сплошной дикой коноплей. Казаки ничего из нее не делают, одеваясь в ситец и кумач. Казачки встарь пряли и ткали полотна на продажу, но потом появился более выгодный промысел вязанья известных оренбургских платков, и полотна были брошены. Теперь платки упали в цене, но к конопле не возвращаются. В нынешнем году, когда нет сена ни в степи, ни дома на уральских лугах, казаки косят коноплю на корм скоту. Будет-ли скот ее есть? С голодухи, говорят, все ест, как ел однажды молодые вязовые прутья. Тут и до этого доходят.
В станице Верхне-Озерной заглядываю в казацкий дом. Несколько светлых клетушек-комнат. Двери из комнаты в комнату прорезаны в виде восточных арок и занавешены ситцами восточных узоров. На сундуках, заменяющих диваны, средне-азиятские ковры. Навесы крылец тоже хитро, по восточному, изогнуты, а витые колонки, их поддерживающие, точно прямо из Самарканда привезены. В Верхне-Озерной холмы начинают превращаться в горы, хребты и ребра которых — голый камень. Горы добегают до Урала и останавливаются, имея вид львиных лап, с пальцами и когтями. Еще несколько верст, — и горы перекидываются за реку, к киргизам, в Тургайскую область.
В станице Никольской, к удивлению, я узнал, что среди казаков много татар. Никольская заселена исключительно татарами. Татарки — в своих блузах без талии; молодые татары — в неподпоясанных рубахах и в ермолках; старики — в татарских барашковых шапках. Мужчины все носят явные следы солдатской выправки, свободно, хоть и не чисто, говорят по-русски и называют вас «ваше благородие». Живут гораздо беднее русских; но служаки, говорят, хорошие.
Еще два переезда, — и горы надвинулись ближе, становятся выше. Вырастают они и на Тургайском берегу Урала. Река сжимается горами все теснее, и наконец совсем неожиданно мы попадаем в чудесное местечко. Дорога идет почти у воды Уральской заводи. Налево — отвесные полуобнаженные серовато-бурые скалы. Направо — невысокий каменный барьер, а из-за него высятся тенистые тополи и вязы, виднеются пышные заросли ивняка, жимолости и шиповника, видна светлая вода заводи, покрытая листьями и цветами белых и желтых кувшинок. После бесконечной степи и голых гор, этот уголок показался маленьким райком. Нельзя было не вылезть из тарантаса и не взглянуть на давно невиданные зеленые и густые травы, — как они тут растут, и нежатся, и зеленеют, утоленные прозрачной водой. Таким местом дорога идет на протяжении всего лишь нескольких саженей; а потом опять пошли долинки, которые становятся все меньше и меньше, и перевалы, которые делаются все чаще, круче и выше.
Читать дальше