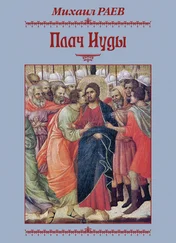В 1967-м я заканчивал знаменитое Щукинское училище, приехал весной домой и застал маму сидящей на срубленной яблоне. Она не обрадовалась моему приезду — как сидела, так и продолжала сидеть. Я сел рядом, мы долго молчали. Из ствола дерева сочился сок.
— Когда твой дед помирал,— не сразу сказала мама,— все говорил: "Охота знать, что будет после моей смерти! Как люди жить будут?" Вот и мне охота знать, что после меня будет?
Я молча смотрел на вырубленный сад.
— Может, и хорошо, что Бог не дает человеку знать, что будет после его смерти! — сказала мама сама себе.
Гдe-то рядом кричала птица. Она металась от дерева к дереву, от ветки к ветке и отчаянно кричала. Я на всю жизнь запомнил этот крик и всякий раз, начиная новый фильм, ищу его в фонотеке киностудии и не могу найти. С того времени он преследует меня и не дает покоя. Возможно, я его уже никогда не найду.
— Съездил бы ты, сынок, в Федюки, что там с хатой! — просила мама, когда жила у меня в Минске, незадолго до смерти. — Я уже не увижу ее, так ты за меня простись, поцелуй порог и стены!
И сны, постоянные сны: то она видела себя в саду, то во ржи, в темном лесу, а после в ее сны стали приходить отец, дед, бабтя Лиза, мои братья. Она видела их и днем: жила в их окружении.
— Смотри, сынок, отец с тобой рядом стоит,— шептала мне.— Я всегда говорила: ты его копия! И баба тут, и дед... Весь род!
Она не могла встать с постели, показывала руками.
— С раницы стоят... Я им говорю: "Зачем пришли? Я же не в Федюках, в Минске живу! Как вы меня нашли?"
— А "они"? — спрашиваю я.
— "За тобой пришли,— говорит баба Лиза.— Коля, муж твой, нашел тебя у сына!" Откуда он знает, спрашиваю, так баба говорит, что они все про нас знают! Может, и фильмы твои видели?
Я сажусь рядом с мамой, понимаю, что с ней происходит.
— Опять пришли... Ну что вы стоите?.. Давайте посидим вместе... Посмотрите, какой у меня сын без вас вырос... — Она стала рассказывать им про меня. — Поздыхали все рано, одну меня оставили, а теперь не терпится, приходите... Не хочу я к вам! Не хочу!
Мама умерла на второй день Рождества, восьмого января, после шести вечера. Бог не дал моим глазам увидеть ее смерть. Я вышел на минуту из ее комнаты, и ангел шепнул: "Мама умерла!" Бросился, приложил ладонь ко лбу, а он уже холодный. Стал кричать: "Мама! Мама!" Прибежала Лиля, а мамы уже не было: ушла из жизни тихо, без стонов и крика.
Я не сразу осознал эту смерть. Пройдет почти год, и только тогда я пойму, что остался один, порвана последняя ниточка, связующая с родом.
Мы все рассчитываемся не только за свои грехи, но и за грехи своего рода. И каждый наш грех аукнется в будущих поколениях.
Все, что я снял, имеет отношение к истории белорусской литературы XX века. И Владимир Короткевич, и Иван Шамякин, и Василь Быков — это уже история. В каждом фильме, снятом по произведениям этих писателей, есть частица меня самого, моей матери, соседей — людей, среди которых я вырос. Если внимательно посмотреть мои фильмы, можно убедиться, что в каждом из них одна и та же изба по планировке. Читая повесть "Знак беды", я видел свой дом, в котором вырос и из которого так рано ушел "в люди". Видел, как ходят быковские герои по моему дому. Я знал каждое движение Степаниды из "Знака беды", каждое движение Ивана Батрака из шамякинского романа "Возьму твою боль". Не надо было ничего придумывать. Все герои двигались по моему федюковскому дому. Мне было легко с ними, я знал их каждый шаг, поэтому мизансцены рождались сами, легко принимались актерами, им было удобно в них. И сегодня, когда работаю над романом Богомолова "Момент истины", или "В августе сорок четвертого...", все деревенские сцены снова оживают в моем федюков- ском доме. Я знаю, что стоит в кухне, что висит на стене в большой комнате, чем накрыт стол, как протекает жизнь человека днем, вечером, каково состояние дома в разное время суток. Это все моя эмоциональная память. И чем дольше живешь, тем она сильнее срабатывает. Если раньше бежал от самого себя, от своего прошлого, то теперь проходишь обратный путь. На этом пути происходит обретение самого себя, потому что там нет ничего выдуманного, только правда, принадлежащая в конце концов не только тебе одному, а — с приходом фильма на экран — всему народу. Никогда не забуду, как во время премьеры "Нашего бронепоезда" в Ленинграде я вошел в зал, когда заканчивались последние кадры фильма: Гостюхин шел по Красной площади, останавливался, поворачивался к людям и с упреком смотрел на них. Шли титры, звучал Рахманинов, а зал молчал. Включили свет, я поднялся на сцену, смотрю в зал, а там — гробовое молчание. Я молчу, и огромный зал Дворца Ленсовета молчит. Не знаю, что и делать: стоять или уходить? И вдруг зал поднялся, и началась овация. Я подошел к микрофону, чтобы поблагодарить людей, но никто не хотел меня слушать — это они благодарили меня аплодисментами. Такое же чувство мы пережили с Гостюхиным во время показа этого фильма в Доме литератора...
Читать дальше
![Михаил Пташук И плач, и слёзы... [Исповедь кинорежиссёра] обложка книги](/books/400410/mihail-ptashuk-i-plach-i-slezy-ispoved-kinorezh-cover.webp)